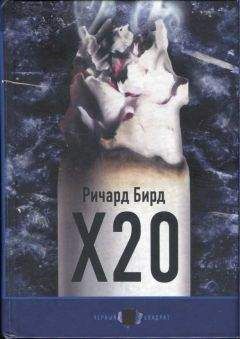Где выгода, — нарушь природу, стань рабом,
поскольку это так — смотри, чтобы никто уже более не слыхал тебя читающим свое собственное сочинение; и никому другому из тех, кто видит твою теперешнюю жизнь, не давай доступа к написанному тобой, но моли Гермеса, проводника усопших, да предаст он строки, написанные тобой, полному забвению также для тех, кто слышал их ранее. Иначе ты окажешься в том же положении, что герой коринфского предания: новым Беллерофонтом, против себя самого написавшим эту книгу.
Клянусь Зевсом, я не нахожу благовидного предлога, который ты мог бы выставить в свою защиту против обвиняющих тебя, в особенности если со смехом станут они так поступать, восхваляя сочинение и свободу, которой оно проникнуто, самого же сочинителя видя пребывающим в рабстве и добровольно подставляющим шею под ярмо.
4. И, конечно, ничего бы никто не сказал непристойного, если бы утверждал, что сочинение это принадлежит другому, благородному человеку, а ты лишь ворона, щеголяющая в чужих перьях; либо, если действительно книга — твоя, значит поступаешь ты подобно Салефу, который установил для жителей Кротона жесточайший закон против прелюбодеев и общее вызвал за него восхищение, а некоторое время спустя сам был захвачен любодействующим с женою собственного брата. Люди скажут, пожалуй: ты, как обувь, сшитая по ноге, и являешься настоящим Салефом. Вернее сказать, вина Салефа гораздо меньше твоей, поскольку, как он сам говорил в защитительной речи, — Эросом был он пленен, но добровольно и очень мужественно прыгнул в огонь, хотя кротонцы жалели его и предоставляли возможность бежать, если пожелает. Твое же поведение куда более непристойно: ты тщательно разбираешь в своем сочинении все, что есть рабского в подневольной жизни; ты обвиняешь тех, кто, попав раз в дом богача и заключив себя в нем, как в темнице, терпеливо сносит бесчисленные и тяжкие оскорбления и поручения. В глубокой старости, уже готовясь переступить порог, ты принял на себя столь низкое служение и даже почти горделиво несешь его. Итак, чем больше ты рассчитываешь быть всеми замеченным, тем большего достоин окажешься осмеяния за полное противоречие между нынешней твоей жизнью и той своею книгою.
5. Впрочем, для чего изобретать против тебя новые слова обвинения, когда существует известная удивительная трагедия, говорящая:
Презрен, кто, мудрствуя, не мудр с самим собой.
Не будут иметь недостатка твои обвинители и в других направленных против тебя примерах. Так, одни сравнят тебя с трагическими актерами, из которых каждый на подмостках бывает Агамемноном или Креонтом, а не то так и самим Гераклом, сойдя же со сцены и сложив с себя личину, превращаются в разных Полов и Аристодемов, которые за плату произносят высокопарные речи, проваливаются, освистываются, а иные из них даже бичеванию подвергаются, — как будет угодно зрителям. Другие скажут: с тобой случилось то же, что с обезьяной, которая принадлежала, как рассказывают, знаменитой Клеопатре. Обезьяна эта была ученой и до поры до времени танцевала очень скромно и благопристойно и вызывала великое удивление, нося подобающим образом свой наряд, соблюдая все правила приличия и телодвижениями сопровождая свадебную песнь, которую исполняли певцы и флейтисты. Но едва увидела обезьяна разложенные поблизости смоквы или миндаль, как сразу забыты были и мелодии флейты, и такт, и пляска: схватив лакомства, обезьяна принялась их грызть, скинув или, вернее сказать, разломав свою маску.
6. Так вот и ты, могут сказать люди, ты — не актер даже, а сам творец и законодатель, создавший прекраснейшее произведение — одной этой смоквой, издали тебе показанной, уличен оказался в том, что ты — не более как обезьяна, что философия у тебя только на языке:
В мыслях таишь ты одно, говоришь же нечто иное.
Справедливо было бы сказать про тебя, что речи, которые ты произносишь и за которые считаешь себя достойным похвал, "лишь по губам бежали", а нёбо сухим оставили. Потому не медля, по пятам, последовало за тобой возмездие, когда с необдуманной поспешностью ты дерзнул выступить против людей, движимых нуждою, а некоторое время спустя сам, едва ли не через глашатая, всенародно под клятвою отрекся от своей свободы. Кажется, сама карающая Адрастея стояла в ту пору за твоей спиной, когда величали тебя люди за осуждение чужих проступков, и усмехалась, ибо ведала она, богиня, что в будущем совершится с тобой подобное же превращение, и что легкомысленно, не поплевав, как говорится, сначала за пазуху, решился ты осуждать людей, которых хитрые сплетения разных случайностей вынуждают мириться с тяжелой участью.
7. Если бы кто-нибудь выступил с речью и доказал, что Эсхин после обвинительного слова против Тимарха сам был пойман и уличен в подобном же с ним приключившемся несчастии, — какой, подумай, поднялся бы среди узнавших об этом смех. Тимарха-то наш оратор привлек к ответу за его неприличествующие возрасту прегрешения, а сам, будучи стариком, столь великое против себя самого совершил беззаконие. В целом же ты напоминаешь того продавца лекарств, который во весь голос расхваливал средство от кашля, обещая незамедлительно исцелить страдающих, и в это время у всех на виду сам раздирающе закашлялся".
8. Вот что и многое иное в том же роде мог бы сказать человек, подобно тебе, любезный Сабин, выступающий с обвинением в этом деле, которое столь открыто для нападения и бесчисленные к тому представляет поводы. А я, со своей стороны, уже высматриваю, к какой бы обратиться мне защите. Не будет ли для меня всего вернее поступить умышленно неправильно, обратить нападающим тыл и, не отрицая своей неправоты, прибегнуть к общему известному оправданию, — я разумею Судьбу, Рок, Предопределение, — и умолять моих обличителей, пусть проявят они ко мне снисхождение, зная, что ни в чем мы над собой не властны, но чем-то более могущественным — говоря короче, одною из вышеназванных сил бываем ведомы, являясь не свободными существами, но, напротив, невменяемыми во всем, что говорим и делаем. Или это чересчур уже тщательное невежество, и для тебя самого, мой друг, невыносимо будет, если такое я тебе оправдание предложу и в защитники себе Гомера возьму и начну читать следующие его стихи:
Рока, скажу, никому из людей избежать невозможно.
Или:
Что сопряла ему пряха, когда его мать породила.
9. Если же, оставив в стороне этот довод, как не слишком вызывающий доверие, стал бы я говорить о том, что не деньгами, не иною какою-нибудь подобною надеждою прельщенный принял я на себя бремя нынешних моих отношений, но, восхищенный умом, храбростью и высотою мысли этого мужа, пожелал приобщиться к деяниям столь великого человека, боюсь, как бы не оказалось после того, что к выдвигаемым против меня упрекам присоединил я еще и обвинение в лести. Вышло бы, что я клином, как говорится, вышибаю клин и к тому же большим меньший, поскольку лесть из всех прочих пороков наиболее рабам свойственна и потому наихудшим пороком считается.
10. Итак, что же иное еще остается мне, — если ни того, ни другого, оказывается, говорить не следует, — как только соглашаться, что не имею я сказать ни одного здравого слова. Единственный, быть может, якорь еще лежит у меня сухим: сетовать на старость, на болезни, наконец, на бедность, которая склоняет человека все делать и все сносить, лишь бы он мог избежать ее. В таком случае не окажется, быть может, неуместным и Еврипидову Медею попросить выступить и произнести в мою защиту следующие ямбы, лишь слегка изменив напевность:
Я знаю, сколько зол мне предстоит свершить,
Но всех моих решений нищета сильней.