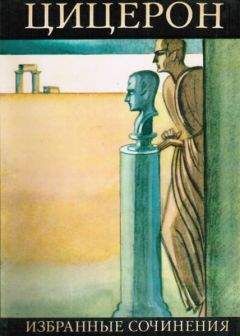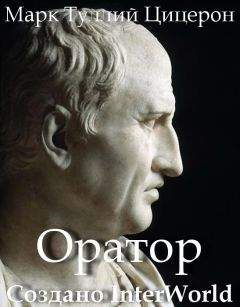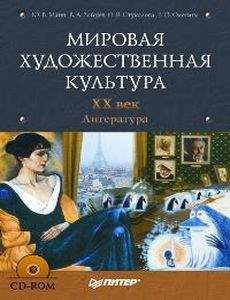(85) Вот она, разница между твоею прихотью и ответственностью предков, между твоим похотливым буйством и их мудрою дальновидностью! Они не подпускали сиракузян к морскому берегу, а ты отдал им власть на море; они запретили сиракузянам селиться там, куда причаливают корабли, — а ты захотел, чтобы сиракузянин возглавлял флот! Тем, кому не была доверена часть собственного города, ты доверил часть римского владычества! Тех, кто помог нам подчинить Сиракузы, ты велел отдать в подчинение сиракузянину!
XXXIII. (86) И вот на центурипской квадриреме выходит из гавани Клеомен; за нею следуют корабли из Сегесты, Тиндариды, Гербиты, Гераклия, Аполлонии, Галунтия, — казалось бы, прекрасный флот, на деле же беспомощный и слабый: ведь и гребцы и бойцы были в отпуске. Полновластный претор не спускал с него бдительных глаз все время, пока шли корабли мимо его притона: много дней он не показывался никому, но на этот раз позволил матросам хоть немного полюбоваться на себя. Полководец римского народа стоял на берегу, обутый в сандалии, в пурпурном греческом плаще и тунике до пят, и какая-то бабенка его поддерживала. Впрочем, в этом виде он не раз уже являлся и сицилийцам, и многим римским гражданам.
(87) Проплыв самую малость, наш флот лишь на пятый день достиг наконец мыса Пахина.68 Здесь голодные моряки стали собирать корни диких пальм, которых много там растет, как и по всей Сицилии. Вот что приходилось есть этим несчастным! Клеомен же, решив сравняться с Верресом не только властью, но и непотребством и распутством, проводил все дни на берегу, подобно претору, пьянствуя в палатке.
XXXIV. И вдруг к пьяному Клеомену и голодающим матросам приходит внезапная весть: в Одиссейской гавани — пиратские корабли! Есть такое место в Сицилии; наш же флот стоял у Пахина. Там при крепости числился — но только числился — воинский отряд; силами его Клеомен надеялся пополнить число моряков и гребцов. Но оказалось, что Веррес в алчности своей обращался с сухопутными войсками точно так же, как с морскими: в крепости оставались считанные солдаты, прочие же были отпущены. (88) Тогда Клеомен первый приказал на своей центурипской квадриреме поставить мачту, поднять паруса, обрубить якоря и дать сигнал остальным судам следовать за ним. С поднятыми парусами корабль его развивал бешеную скорость, а вот как ходят корабли на веслах, об этом при Верресе все давно уже успели забыть. Да к тому же, ради чести и милости к Клеомену, с квадриремы его было уволено меньше гребцов и бойцов. Оттого-то летящая квадрирема исчезала уже из виду, тогда как прочие корабли никак не могли сдвинуться с места.
(89) Но моряки, пусть и отстав, не падали духом: их было мало, им было трудно, но они кричали, что хотят сражаться, и сколько оставил им голод сил и жизни, они рады отдать их в сражении. И они могли бы еще сопротивляться, не умчись Клеомен на такое расстояние: ведь корабль его, большой и палубный, мог бы стать оплотом для других и по сравнению с маленькими пиратскими ладьями показался бы целым городом, если бы только принял участие в битве. Но покинутые вождем и флотоводцем, они в бессилии вынуждены были следовать за ним. (90) Вслед за ним они плыли к Гелору, не столько убегая от пиратов, сколько поспевая за предводителем. И кто был последним в бегстве, тот оказывался первым в опасности: на него раньше всех набрасывались пираты. Первым взят был галунтийский корабль под начальством знатного галунтянина Филарха, — впоследствии жители Локр сумели выкупить его за счет города; именно от него вы и узнали под присягой обо всем этом во время первого слушания дела. Вслед за тем берут аполлонийский корабль, а его начальника Антропина убивают. XXXV. (91) А Клеомен меж тем достиг уже Гелора и, едва приставши к берегу, сошел на сушу и бросил квадрирему на волю волн. Остальные корабельщики, увидев своего вождя на берегу, последовали его примеру, — все равно ведь у них не было средств ни к битве, ни к бегству. И Гераклеон, предводитель пиратов, не по доблести своей, а лишь по алчности и непотребству Верреса неожиданно оказавшись победителем, приказал под наступающими сумерками поджечь и спалить дотла вытащенный и выброшенный на песок прекраснейший флот римского народа.
(92) О, горькие и злые для Сицилии времена! О, бедствие, пагубное и гибельное для стольких невинных! О, неслыханное беспутство и бесстыдство претора! В одну и ту же ночь пылал в пламени позорнейшей страсти Веррес и пылал подожженный разбойниками флот римского народа.
Глубокой ночью тяжкая весть о несчастье пришла в Сиракузы. Все бросились к дому претора, куда только что с песнями и музыкой его препроводили женщины после разудалой пирушки. Клеомен, и в темноте боясь попасться на глаза людям, заперся дома; и даже не было с ним жены, чтобы утешить мужа в горе. (93) А у самого наместника в доме была заведена такая военная строгость, что даже столь тяжелой и страшной вестью никто не смел его беспокоить. Никто не решался разбудить его спящего или потревожить бодрствующего. А известие разносилось, по городу собирались толпы, и о случившемся несчастье и грозящей от пиратов опасности возвещали не сигнальные огни на холмах или сторожевых вышках, как когда-то, а пламя пожара, в котором горели корабли.
XXXVI. Пока шли розыски претора и становилось очевидным, что он ничего не знает, к его дому с криками подступила толпа. (94) С трудом проснувшись, Веррес выслушивает Тимархида, надевает военный плащ и уже почти на рассвете появляется перед народом, еще томный от сна, вина и разврата. При его появлении толпа взревела, и в глазах у претора встали мрачные видения Лампсака.69 Но сейчас опасность казалась еще ближе, потому что ненависть была не меньше, а толпа гораздо больше, чем в те памятные дни. Ему припомнили его блудный стан, его попойки, из толпы ему выкрикивали имена женщин, спрашивали в открытую, где он пропадал, что столько дней его не видели, и чем он занимался; потом стали требовать Клеомена, его ставленника; и едва не повторилась в Сиракузах с Верресом та расправа, что когда-то выпала Адриану в Утике,70 — так что в двух провинциях чуть не оказались две могилы двух бесчестных преторов.
Но народ помнит, что время ночное, положение тревожное, помнит о достоинстве сиракузского собрания римских граждан, столь почтенного, что оно могло бы украсить не одну эту провинцию, но все наше государство. (95) И пока наш полководец, все еще сонный, оцепенело взирает на все происходящее, люди, подбадривая друг друга, берутся за оружие, заполняют форум, занимают Остров — важнейшую опору города.
А разбойники, переночевавшие при Гелоре, бросив наши еще дымящиеся корабли, двинулись на Сиракузы. Они, конечно, слышали не раз, как прекрасны в Сиракузах город и гавань, и справедливо рассудили, что коли при Верресе они не полюбуются ими, то потом уж, верно, никогда. XXXVII. (96) Первым делом подступили они к летнему пристанищу претора, где в те дни на берегу в палатках он раскинул свой блудный стан. Обнаружив, что стан сей пуст и претор оттуда уже снялся, пираты, не колеблясь, устремились в самый порт.71
Когда говорю я «порт», судьи, я хочу сказать, что разбойники вторглись в город, в самую его сердцевину, — это необходимо объяснить тем, кто незнаком с тою местностью. В Сиракузах не город замыкается портом, но сам порт опоясывается и ограничивается городом, так что море не у дальних плещется стен, а вливается в глубокое лоно города. (97) И вот там-то в твое наместничество своевольно разъезжал на утлых четырех суденышках пират Гераклеон! Бессмертные боги! Жалкие пиратские ладьи бороздили воду перед форумом и набережными Сиракуз, осененных именем и властью римского народа. Сюда за столько войн, не раз пытавшись, не сумел проникнуть властвовавший морем знаменитый карфагенский флот; сюда не прорывались ни в Пунийских, ни в Сицилийских войнах непобедимые до твоего преторства славные римские корабли, ибо сама природа создала это место таким, что сиракузяне раньше видели вражеское войско в стенах своих, в городе, на форуме, чем вражеское судно в водах своего порта. (98) Веррес! Стоило тебе стать претором, как в этих водах стали почем зря разгуливать пиратские суденышки. Сколько помнят люди, только раз сюда ворвался силою и множеством трехсот кораблей афинский флот, но и он, подавленный самой природою, нашел здесь свою гибель: здесь впервые было сломлено могущество Афин, в этих водах потерпели крушение и слава их, и власть, и достоинство.
XXXVIII. А теперь в эти воды пробрался пират, не боясь, что город окружал его и сбоку и с тылу! Он объехал сиракузский Остров, — целый город, с особым именем, за особой стеной, тот самый, где наши предки, как сказал я, запрещали селиться сиракузянам, потому что понимали: кто владеет Островом, тот будет владеть и гаванью. (99) О, как шествовали здесь пиратские корабли! За собой они разбрасывали корни диких пальм, найденные на наших кораблях, чтобы все увидели позор претора и беду Сицилии. Сицилийские воины, дети пахарей, чьи отцы трудом своим взрастили столько хлеба, что могли снабжать им римский народ и всю Италию, рожденные на острове Цереры, родине хлебных злаков, вновь питались тою пищей, от которой предки их навеки избавили человечество. В твое преторство, Веррес, сицилийские воины кормились пальмовыми корнями, а гнусные пираты — сицилийским хлебом!