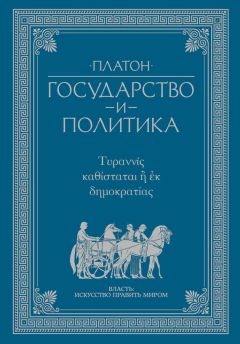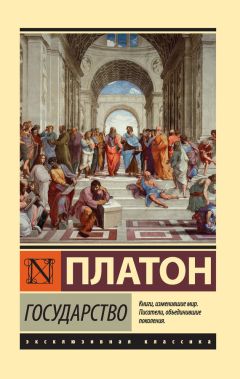– Я догадываюсь, – заметил он, – ты изгладываешь, принять ли в наше общество трагедию и комедию или не принимать.
– Может быть, еще и более этого, – сказал я, – сам не знаю: куда слово, как дух, поведет нас, туда и пойдем.
– Да и хорошо-таки, – примолвил он.
– Сообрази-ка, Адимант, вот что: стражи должны ли быть у нас подражателями или не должны? Впрочем, и из прежнего следует, что всякий может хорошо исполнять одну должность, а не многие; если же и берет на себя это, то, хватаясь за многое, ни в чем не успеет столько, чтобы заслужить одобрение.
– Как не следует?
– Но не то же ли и о подражании? То есть в состоянии ли кто-нибудь хорошо подражать многому, как одному?
– Конечно, нет.
– Стало быть, приступая к достойным внимания делам, едва ли кто исполнит в них все, и подражая многому, едва ли сделается подражателем, когда одни и те же люди не в состоянии хорошо подражать даже двум вместе, по-видимому, близким родам подражания, то есть сочинить комедию и трагедию[174]. Или ты не назвал их подражаниями?
– Назвал, и твое мнение справедливо, что одни и те же люди не могут делать этого.
– Ведь и рапсодисты-то не могут быть вместе актерами.
– Правда.
– У трагиков и комиков даже и актеры не те же самые, и все это – подражание. Или нет?
– Подражание.
– Да, что еще, Адимант: мне кажется, будто человеческая природа рассечена на малейшие части[175]; так что хорошо подражать многому и обращаться с предметами, по отношению к которым подражания суть подобия, она не в состоянии.
– Весьма справедливо, – сказал он.
– Итак, если мы хотим удержать прежнюю свою мысль, то стражи у вас, оставив все другие искусства, обязаны быть тщательнейшими художниками общественной свободы; им не следует заниматься чем-либо, что не ведет к этому; ничего-таки иного не должны они делать и ничему иному не должны подражать. Когда же и будут, то их подражание должно начинаться с самого детства и быть приспособленным к их обязанностям, чтобы, сделать их мужественными, рассудительными, благочестивыми, свободными и тому подобное: а что не свободно или как иначе постыдно, то да будет чуждо их деятельности и подражания; ибо в противном случае подражание вещи познакомит их с самою вещью[176]. Или ты не знаешь, что быв повторяемо с юности, оно переходит в нрав и природу, отпечатлевается и в теле, и в голосе, и в уме.
– И очень, – сказал он.
– Так не позволим, – продолжал я, – чтобы люди, о которых мы заботимся и которые должны быть добрыми, – чтобы эти люди, будучи мужчинами, подражали женщине – молодой или престарелой, ссорящейся с мужем или ропщущей на богов и величающейся, почитающей себя счастливою или бедствующею, скорбящею, жалкою. Не наше дело, что она страдает, любит или болезнует родами.
– Без сомнения, – сказал он.
– И то – не наше, что служанки и слуги совершают дела, приличные слугам.
– И это.
– И то, что дурные люди, по обыкновению, бывают малодушны и делают противное тому, о чем мы говорили, то есть злословят и осмеивают друг друга, ведут постыдный разговор в пьяном и даже в трезвом виде, или грешат как иначе словом и делом против себя и других людей. Я думаю, что стражи не должны даже привыкать ни к словесному, ни к деятельному представлению бешеных. Нужно, без сомнения, узнавать бешеных и лукавых людей – мужчин и женщин, но совершать их дела и подражать им не нужно.
– Весьма справедливо, – сказал он.
– Ну, а кузнецам и прочим мастеровым, перевозчикам на весельных судах и начальникам их, либо другим в этом роде людям нужно ли подражать? – спросил я.
– Да как же будут подражать те, – отвечал он, – которым и внимание-то обращать на все такое не позволяется?
– Ну, а ржанию лошадей, мычанию быков, шуму рек, реву морей, грому и всему подобному будут ли они подражать?
– Но ведь им запрещено и приходить в бешенство, и подражать бешеному, – сказал он.
– Стало быть, сколько я понимаю тебя, бывает и такой род речи, либо повествования, в котором может повествовать человек истинно добрый и честный, когда находит нужным что-нибудь высказать; бывает опять и такой, который нисколько не походит на этот и которого в повествовании всегда держится человек, по природе и воспитанию противоположный первому[177].
– Какие же это роды? – спросил он.
– Мне кажется, – продолжал я, – что человек мерный, приступая в своей повести к изложению речей или действий мужа доброго, захочет изобразить его таким, каков он сам, и не будет стыдиться этого подражания – ни тогда, когда доброму, действующему осмотрительно и благоразумно, подражает во многом, ни тогда, когда его подражание доброму, страдающему либо от болезней, либо от любви, либо от пьянства, либо от какого-нибудь другого несчастья, бывает невелико и ограничивается немногим. Но если бы он встретился с человеком недостойным себя, то не шутя, конечно, не согласился бы уподобиться худшему, – разве на минуту, когда бы этот худший сделал что хорошее: ему было бы стыдно, что он должен отпечатлеть в себе и выставить типы негодяев, которых мысленно презирает; а когда бы это и случилось, то разве для шутки.
– Вероятно, – сказал он.
– Итак, в повести не воспользуется ли он теми замечаниями, которые мы недавно сделали, рассматривая песнопения Омира? И хотя его речь не будет чуждаться того и другого способа, то есть и подражания, и рассказа в ином виде; однако ж подражание не войдет ли только в малейшую часть длинной его речи? Или я говорю пустяки?
– Ты говоришь дельно, если в самом деле необходим тип такого ритора.
– А кто не таков, – продолжал я, – тот чем хуже, тем более будет рассказывать о всем и не признает ничего недостойным себя, так что решится не шутя и пред многими подражать всему, то есть, как сказано выше, и грому, и шуму ветров, града, веретен, колес, труб, флейт, свирелей, и тонам всех инструментов, и даже звукам собак, овец и птиц. Стало быть, вся его речь, составленная из подражания голосам и образам, не будет ли заключать в себе весьма мало рассказа?
– Это тоже необходимо, – отвечал он.
– Так вот что я разумел, говоря о двух родах изложения.
– Да, они действительно таковы, – сказал он.
– Но один из них не малым ли подвержен изменениям? И кто сообщает речи надлежащую гармонию и рифм, тому, чтобы говорить справедливо, не приходится ли выражаться всегда почти одним и тем же способом, одною и тою же гармонией – (ибо изменения здесь невелики) – да и рифмой-то приблизительно также одинаковой?[178]
– В самом деле так бывает, – сказал он.
– Что ж? А род речи, свойственный другому, не требует ли противного, то есть всяких гармоний и всяких рифм, если говорить опять, как следует? Ведь формы изменений в нем весьма различны?
– Это-то и очень несомненно.
– Так не все ли поэты и говорящие что-нибудь употребляют либо тот тип речи, либо этот, либо смешанный из того и другого?
– Необходимо, – отвечал он.
– Что же мы сделаем? – спросил я. – Все ли эти типы примем в свой город или который-нибудь один из несмешанных или смешанный?
– Если нужно мое мнение, – сказал он, – то примем несмешанного подражателя[179] честному.
– Однако ж, Адимант, приятен ведь и смешанный; но детям, воспитателям и большой толпе народа гораздо приятнее противный[180] тому, который ты избираешь.
– Да, весьма приятен.
– Но ты, может быть, скажешь, что он не гармонирует с нашим политическим обществом, поколику у нас человек не двоится и не развлекается многими делами, а делает каждый одно.
– Без сомнения, не гармонирует.
– Значит, это общество будет иметь в кожевнике только кожевника, а не кормчего сверх кожевнического мастерства, в земледельце – только земледельца, а не судью сверх земледельческих занятий, в военном человеке – только военного, а не ростовщика сверх военного искусства, и всех таким же образом?
– Справедливо, – сказал он.
– А кто, по-видимому, стяжав мудрость быть многоразличным и подражать всему, придет со своими творениями и будет стараться показать их; тому мы поклонимся, как мужу дивному и приятному, и сказав, что подобного человека в нашем городе нет и быть не должно, помажем его голову благовониями, увенчаем овечьею шерстью и вышлем его в другой город[181]; сами же, ради пользы, обратимся к поэту и баснослову более суровому и не столь приятному, который у нас будет подражать речи человека честного и говорить сообразно типам, постановленным нами вначале, когда мы приступили к образованию воинов.
– Конечно, так сделаем, – примолвил он, – лишь бы это было в нашей воле.
– Итак, музыка речей[182] и рассказов теперь у нас, друг мой, должна быть окончательно определена, – сказал я, ибо показано, что и как надобно говорить.
– Мне и самому кажется, – примолвил он.
– Не остается ли нам после этого рассмотреть еще образ песни и мелодий?[183] – спросил я.
– Разумеется.
– Но не видно ли уже всем, что должны мы сказать об их качествах, если хотим быть согласны с прежними положениями?