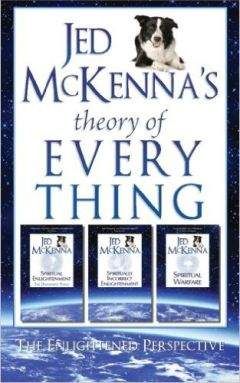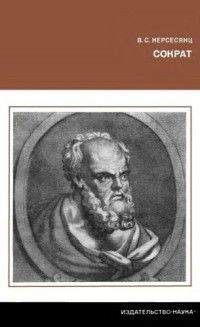Горгий. Да, верно.
Сократ. Но если оно не одно производит такое действие, а другие искусства тоже, мы могли бы теперь точно так же, как раньше насчет живописца, задать своему собеседнику справедливый вопрос: красноречие — это искусство убеждения, но какого убеждения и на что оно направлено? Или же такой вопрос кажется тебе неуместным?
Горгий. Нет, отчего же.
Сократ. Тогда отвечай, Горгий, раз и ты того же мнения.
Горгий. Я говорю о таком убеждении, Сократ, которое действует в судах и других сборищах (как я только сейчас сказал), а его предмет — справедливое и несправедливое[10].
Сократ. Я, конечно, догадывался, Горгий, что именно о таком убеждении ты говоришь и что именно так оно направлено. Но я хотел предупредить тебя, чтобы ты не удивлялся, когда немного спустя я снова спрошу тебя о том, что, казалось бы, совершенно ясно, а я все-таки спрошу: ведь, повторяю еще раз, я задаю вопросы ради последовательного развития нашей беседы, не к твоей невыгоде, а из опасения, как бы у нас не вошло в привычку перебивать друг друга и забегать вперед. Я хочу, чтобы ты довел свое рассуждение до конца, как сам найдешь нужным, по собственному замыслу.
Горгий. По-моему, прекрасное намерение, Сократ.
Сократ. Тогда давай рассмотрим еще вот что. Знакомо ли тебе слово «узнать»?
Горгий. Знакомо.
Сократ. Ну, что ж, а «поверить»?
Горгий. Конечно.
Сократ. Кажется ли тебе, что это одно и то же — «узнать» и «поверить», «знание» и «вера»[11] — или же что они как-то отличны?
Горгий. Я думаю, Сократ, что отличны.
Сократ. Правильно думаешь, и вот тебе доказательство. Если бы тебя спросили: «Бывает ли, Горгий, вера истинной и ложной?» — ты бы, я полагаю, ответил, что бывает.
Горгий. Да.
Сократ. Ну, а знание? Может оно быть истинным и ложным?
Горгий. Никоим образом!
Сократ. Стало быть, ясно, что это не одно и то же.
Горгий. Ты прав.
Сократ. А между тем убеждением обладают и узнавшие, и поверившие.
Горгий. Правильно.
Сократ. Может быть, тогда установим два вида убеждения: одно — сообщающее веру без знания, другое — дающее знание?
Горгий. Прекрасно.
Сократ. Какое же убеждение создается красноречием в судах и других сборищах о делах справедливых и несправедливых? То, из которого возникает вера без знания или из которого знание?
Горгий. Ясно, Сократ, что из которого вера.
Сократ. Значит, красноречие — это мастер убеждения, внушающего веру в справедливое и несправедливое, а не поучающего, что справедливо, а что нет.
Горгий. Так оно и есть.
Сократ. Значит, оратор в судах и других сборищах не поучает, что справедливо, а что нет, но лишь внушает веру, и только. Ну, конечно, ведь толпа не могла бы постигнуть столь важные вещи за такое малое время.
Горгий. Да, конечно.
Сократ. Давай же поглядим внимательно, что мы, собственно, понимаем под красноречием: ведь я и сам еще не могу толком разобраться в своих мыслях. Когда граждане соберутся, чтобы выбрать врача, или корабельного мастера, или еще какого-нибудь мастера, станет ли тогда оратор подавать советы? Разумеется, не станет, потому что в каждом таком случае надо выбирать самого сведущего в деле человека. И так же точно, когда нужно соорудить стены, или пристани, или корабельные верфи, требуется совет не ораторов, а строителей.
А когда совещаются, кого выбрать в стратеги — для встречи ли с неприятелем в открытом бою, для захвата ли крепости, — опять советы подают не ораторы, а люди сведущие в военном искусстве. Что ты на это скажешь, Горгий? Раз ты и себя объявляешь оратором, и других берешься выучить красноречию, кого же еще, как не тебя, расспрашивать о свойствах твоего искусства? И прими в расчет, что я хлопочу теперь и о твоей личной выгоде.
Может, кто-нибудь из тех, кто здесь собрался, хочет поступить к тебе в ученики — нескольких я уже замечаю, а пожалуй, и довольно многих, — но, может быть, они не решаются обратиться к тебе с вопросом. Так считай, что вместе со мною тебя спрашивают и они: «Какую пользу, Горгий, мы извлечем из твоих уроков? Насчет чего сможем мы подавать советы государству? Только ли насчет справедливого и несправедливого или же и насчет того, о чем сейчас говорил Сократ?» Постарайся им ответить.
Горгий. Да, я постараюсь, Сократ, открыть тебе доподлинно всю силу красноречия. Тем более что ты сам навел меня на правильный путь. Ты, бесспорно, знаешь, что и эти верфи, о которых была речь, и афинские стены, и пристани сооружены по совету Фемистокла и отчасти Перикла[12], а совсем не знатоков строительного дела.
Сократ. Верно, Горгий, про Фемистокла ходят такие рассказы, а Перикла я слышал и сам, когда он советовал нам сложить внутренние стены.
Горгий. И когда случаются выборы, — одни из тех, о которых ты сейчас только говорил, Сократ, — ты, конечно, видишь, что советы подают ораторы и в спорах побеждают их мнения.
Сократ. Это меня и изумляет, Горгий, и потому я снова спрашиваю, что за сила в красноречии. Какая-то божественно великая сила чудится мне, когда я о нем размышляю.
Горгий. Если бы ты знал все до конца, Сократ! Ведь оно собрало и держит в своих руках, можно сказать, силы всех <искусств>! Сейчас я приведу тебе очень убедительное доказательство.
Мне часто случалось вместе с братом и другими врачами посещать больных, которые либо не хотели пить лекарство, либо никак не давались врачу делать разрез или прижигание, и вот врач оказывался бессилен их убедить, а я убеждал, и не иным каким искусством, а одним только красноречием. Далее, я утверждаю, что если бы в какой угодно город прибыли оратор и врач и если бы в Народном собрании или в любом ином собрании зашел спор, кого из двоих выбрать врачом, то на врача никто бы и смотреть не стал, а выбрали бы того, кто владеет словом, — стоило бы ему только пожелать.
И в состязании с любым другим знатоком своего дела оратор тоже одержал бы верх, потому что успешнее, чем любой другой, убедил бы собравшихся выбрать его и потому что не существует предмета, о котором оратор не сказал бы перед толпою убедительнее, чем любой из знатоков своего дела. Вот какова сила моего искусства и его возможности.
Но к красноречию, Сократ, надо относиться так же, как ко всякому прочему средству состязания. Ведь и другие средства состязания не обязательно обращать против всех людей подряд по той лишь причине, что ты выучился кулачному бою, борьбе[13], обращению с оружием, став сильнее и друзей, и врагов, — не обязательно по этой причине бить друзей, увечить их и убивать. Так же точно, если кто будет долго ходить в пелестру[14] и закалится телом и станет опытным кулачным бойцом, а потом поколотит отца и мать или кого еще из родичей или друзей, не нужно, клянусь Зевсом, по этой причине преследовать ненавистью и отправлять в изгнание учителей гимнастики и всех тех, кто учит владеть оружием. Ведь они передали свое уменье ученикам, чтобы те пользовались им по справедливости — против врагов и преступников, для защиты, а не для нападения; те же пользуются своей силою и своим искусством неправильно — употребляют их во зло. Стало быть, учителей нельзя называть негодяями, а искусство винить и называть негодным по этой причине; негодяи, по-моему, те, кто им злоупотребляет.
То же рассуждение применимо и к красноречию. Оратор способен выступать против любого противника и по любому поводу так, что убедит толпу скорее всякого другого; короче говоря, он достигнет всего, чего ни пожелает.
Но вовсе не следует по этой причине отнимать славу ни у врача (хотя оратор и мог бы это сделать), ни у остальных знатоков своего дела. Нет, и красноречием надлежит пользоваться по справедливости, так же как искусством состязания. Если же кто-нибудь, став оратором, затем злоупотребит своим искусством и своей силой, то не учителя надо преследовать ненавистью и изгонять из города: ведь он передал свое умение другому для справедливого пользования, а тот употребил его с обратным умыслом. Стало быть и ненависти, и изгнания, и казни по справедливости заслуживает злоумышленник, а не его учитель.
Сократ. Я полагаю, Горгий, ты, как и я, достаточно опытен в беседах, и вот что тебе случалось, конечно, замечать. Если двое начнут что-нибудь обсуждать, то нечасто бывает, чтобы, высказав свое суждение и усвоив чужое, они пришли к согласному определению и на том завершили разговор, но обычно они разойдутся во взглядах, и один скажет другому, что тот выражается неверно или неясно, и вот уже оба разгневаны и каждый убежден, будто другой в своих речах руководится лишь недоброжелательством и упорством, а о предмете исследования не думает вовсе.