«Я прошу тебя», — сказал я.
«Что значит просить для тебя? Для тебя, Луций Эмилий Сабин?».
О, если бы она знала, сколько гордости, граничащей с гордыней, сколько радости за свою силу, за свою непохожесть на других, было в звуках моего имени там, в Риме! Сколько драгоценного λάθε ριωσας содержало в себе там это Луций Эмилий Сабин! Но Рим был далеко, был там. А здесь была Сегеста, сицилийское захолустье, некий потусторонний мир в реальной жизни, и звучное имя мое было здесь только моим обозначением.
Я боялся остаться в этом потустороннем мире, боялся лишиться ее плоти, ставшей тогда воплощением истинной жизни моей.
Охваченный неописуемым ужасом, я искал ответа. Я не умел просить. Гораздо позже я признался ей, что никогда не просил ни о чем богов: я только искренне благодарил их за осуществление моих чаяний. Но это было гораздо позже.
Я сказал:
«Просить о чем-то значит для меня — предлагать, по крайней мере, нечто равное».
Сейчас, когда я пишу тебе это письмо, Луций, мне вспомнилось гераклитовское: «Θυμώι μάχεσθαι χαλεπόν δ γαρ άν θέληι, ψυχής ώνεΐται»[261]. Но тогда о Гераклите я не думал. Мой философский загар…
Ответ мой то ли понравился ей, то ли попросту удовлетворил ее, то ли она потребовала от меня объяснения, желая всего-навсего убедиться, что я, действительно, прошу ее. Выражение ее лица и ее голос стали мягче. Флавия улыбнулась своей особой доброй, почти озорной, словно у лисенка, улыбкой, в которую уходит вся, когда улыбается радостно, и предложила выпить за исполнение трех наших самых больших желаний. Упомяну здесь только третье, самое сильное желание каждого из нас. Я желал обрести успокоение, потому что оскал Сфинги все еще терзал меня. А ее самым заветным желанием было, чтобы кто-то, наконец, полюбил ее такой, какой она есть на самом деле — не больше и не меньше. Сказала она это очень красиво, с особой присущей ей задушевностью. Впрочем, когда Флавия отдается своей задушевности, речь ее становится удивительно прекрасна. И не только ее речь, но и вся она.
Она поднялась и пошла, пошатываясь. Никогда еще не приходилось мне иметь дела с такой пьянью. Когда мы шли к ней домой, я поддерживал ее. Пошатнувшись особенно сильно и едва не растянувшись на дороге, Флавия (возможно, в оправдание своей неуклюжести) заявила, что именно по моей вине (хотя и косвенной: выйдя со мной на прогулку, она обула новые башмаки стоимостью в 12 000 сестерциев) сломала каблук, и я пообещал купить ей еще одну пару. Этого обещания я пока что не выполнил.
Придя к ней домой, мы не сразу же приступили к поединку в честь Венеры: Флавия еще довольно долго пила фалернское и несла всякий вздор. Среди этого вздора она заявила вдруг, что не будь у нее связи с ее греком, она жила бы со мной. Она заявила об этом совершенно уверенно, даже не спросив моего мнения. Как ни странно, в ту минуту она не была пьяна нисколько. Мне хотелось этого, но поверить в это я боялся, и потому ответил, что мне предстоит часто отсутствовать: ездить по Италии, возможно, даже отлучаться в Александрию. «Ну, и что? Я буду ждать тебя».
Да, я забыл упомянуть одну существенную подробность: перед тем, как отправиться к ней домой, — еще там, в таверне, когда она заливала вином свою раздраженность и неуверенность, еще до того, как она потребовала, чтобы я просил ее, когда мы занимались очередным рассмотрением меня, я обратился к ней с вопросом: «Ты могла бы полюбить меня?». «Конечно», — уверенно ответила она. Я знал, что она ответила искренне, обдуманно. Я и сам знал заранее — хотя совершенно уверен в этом не был, — что она ответит: «Да». А ранее, в первую ночь нашей любви (увы, употребляю это слово пока что условно), еще до первой ночи любви наших тел, она с особенно глубокой ностальгией говорила о том, что любовь есть нечто, чего многим смертным, большинству смертных вообще зачастую не дано достигнуть в течение одной жизни. А ведь она не читала Платона. И хорошо, что не читала… Теперь ты понимаешь, Луций, каким волшебным благом было ее уверенное, продуманное: «Конечно».
Напившись до предела (если только в питии для Флавии вообще существует предел: от нее самой я узнал, что двух своих любовников она довела питием до белой горячки), Флавия разделась донага и спокойно улеглась на ложе в ожидании предстоящего — что я возьму ее. В фалернском, которое в начале моих ласк едва не вылилось из нее обратно, Флавия утопила собственное замешательство.
Я лег рядом, провел в нерешительности рукой по всему ее телу: оно сохраняло неподвижность, казавшуюся равнодушием, но я знал, что буду изо всех сил долго и искусно, как только могу, играть этим телом, и что я дам ей наслаждение, что заставлю ее взять и от меня не только порыв, но и наслаждение, несмотря ни на ее неподвижность, ни на ее замешательство, ни на ее сомнения, ни на то, что она на протяжении всего вечера упорно вливала фалернское в свое худощавое тело, словно в дырявый тощий бурдюк.
Я прильнул к ней и с необычайной ясностью впервые (ибо впервые ласкал я женщину столь винообильную) прочувствовал, как верен стих Архилоха:
Και πεσειν δρήστην έπ' άσκόν, κάπΐ γαστρί γαστέρα
Προσβαλείν μηρούς τε μηροΐς.. [262]
О, боги, откуда в ней было столько выдержки! Она отвечала так ясно и трезво на каждое, даже малейшее движение моего тела, а иногда и предугадывала эти движения. Опьянение вином было совершенно бессильно перед ней, и она властно требовала от меня и еще более от себя самой опьянения ласками. Трезвость словно угнетала ее невыносимо, тогда она подползла к краю ложа, заставив и меня подползти туда же на ее теле, и затем откинулась оттуда головой вниз в пустоту. Вонзившись в нее, я удерживал ее тело на ложе, а голова ее раскачивалась в пустоте под моим лицом, словно в какой-то бездне.
Я безупречно запомнил ее тело с предыдущей, с первой ночи ласк наших тел, оно уже не было для меня чужим, его не нужно было изучать: нужно было играть им, совершенствуя свою игру все более. Она прекрасно знала это, и каждым своим восторженным движением подбадривала меня, призывая продолжать, призывая к новым, все более нарастающим ласкам.
Наконец, она все-таки изнемогла, и я, собравшийся было продержать ее в состоянии восторга до рассвета, в конце концов возблагодарил Вакха за то, что она перегрузила свое тело вином, ибо это была пора Овна, Австр яростно бросался со стороны Карфагена на Сицилию, отталкивая Ливийца, а Аквилон пытался прогнать их обоих к Сиртам: схватка ветров отзывалась в голове моей вихрями и водоворотами, и через несколько минут после того, как Флавия забылась сном, я тоже провалился в беспамятство.
Утром, когда я открыл глаза, мне было удивительно хорошо. Словно я опять оказался вдруг в том времени на левом берегу Тибра. Достаточно упомянуть, что на стене застыла густая сеть, сотканная из солнечных лучей и тени от сплетений виноградных лоз с гроздьями и широкими листьями.
Измятое нашей постельной борьбой ложе хранило все до единого запахи тела Флавии, но самой ее не было: я лежал один. Рядом с моим лицом была вмятина, оставленная ее локтем, а близ моего паха вдавились две глубокие ямки от ее колен. Минувшая ночь наших ласканий была еще реальнее, чем настоящее утро моего прекрасного пробуждения. Я вернулся в минувшее — уснул снова.
Затем меня разбудил приход Флавии. Она склонилась надо мной в короткой тунике и сказала:
«Тебе нужно уходить».
Я поднялся с ложа и хотел поцеловать ее, но она отстранилась. В ней уже было не замешательство, а упрек самой себе.
«Теперь я совершенно уверена, что всякий раз, оказавшись наедине друг с другом, мы будем совокупляться безудержно, как сумасшедшие».
Я стал было уверять ее, что мы сможем сдерживаться, что я смогу сдерживаться, но тут же понял, что уверения эти — глупость. Не потому, что они были ложью, а потому что они были глупостью.
Я еще раз попытался поцеловать ее, но она снова уклонилась, на этот раз еще более холодно.
Я знал из ее же слов, что, переспав с множеством мужчин, она испытывала теперь угрызения совести к своему нынешнему греку.
Мне вспомнилось ее уверенное: «Конечно», сказанное перед нашей постельной борьбой, через которое она видела нас вместе, вспомнилось столь же искреннее и продуманное признание, что она могла бы полюбить меня, то есть найти во мне ту любовь, о которой только мечтала и которая дана далеко не всем смертным и не во всякой жизни, — любовь, о которой писал Платон. Она, не читавшая Платона…
Я спросил:
— Скажи, а этот, твой грек, который «очень сильно любит тебя», любит ли он тебя такую, какова ты есть, любит ли он тебя любовью, о которой ты мечтала.
Я был уверен, что услышу: «Нет». Мне хотелось завоевать ее, и поэтому я задал такой вопрос.


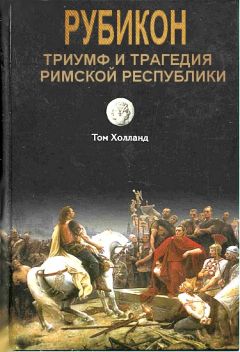
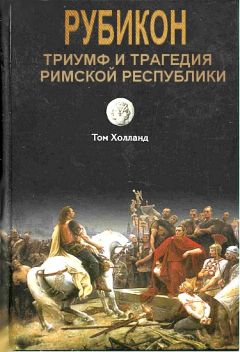
![Э. Гиббон - История упадка и крушения Римской империи [без альбома иллюстраций]](https://cdn.my-library.info/books/173961/173961.jpg)