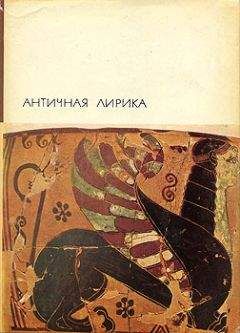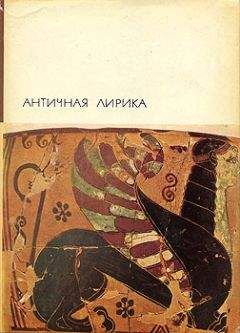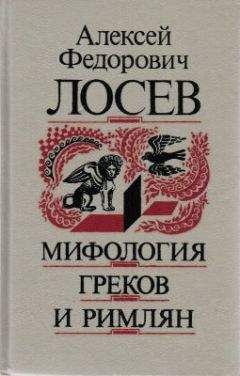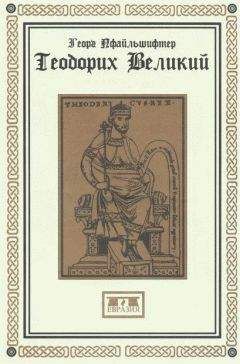ЭЛЕГИИ ЛИГДАМА
«С сердцем железным был тот…»
С сердцем железным был тот, кто у девушки отнял впервые
Юношу иль у него силой любимую взял.
Был бессердечен и тот, кого тоска не сломила,
Кто в состоянье был жить даже в разлуке с женой.
Тут уже твердости мне не хватит, тупое терпенье
Мне не по силам: тоска крепкие рушит сердца.
Не постыжусь я правду сказать и смело сознаюсь
В том, что полна моя жизнь множеством горьких обид.
Что же! Когда Наконец я тенью прозрачною стану,
Черная скроет зола бледные кости мои,
Пусть и Неэра придет, распустив свои длинные кудри,
Пусть над костром роковым в горести плачет она.
С матерью милой она пусть придет — со спутницей
в скорби:
Зятя оплачет она, мужа оплачет жена.
Манам моим мольбу вознеся и душе помолившись,
Благочестиво затем руки водою омыв,
Все, что от плоти моей останется, — белые кости —
Вместе они соберут, черные платья надев.
А подобравши, сперва оросят многолетним Лиэем
И белоснежным потом их окропят молоком;
Влажные кости они полотняным покровом осушат
И, осушив, наконец сложат во мраморный склеп.
Будут пролиты там товары богатой Панхеи,
Все, что Ассирия даст и аравийский Восток;
Слезы прольются тогда, посвященные памяти нашей:
Так бы хотел опочить я, обратившись во прах.
Надпись пускай огласит причину печальной кончины,
Пусть на гробнице моей каждый прохожий прочтет:
«Здесь почиет Лигдам: тоска и скорбь о Неэре,
Злая разлука с женой гибель ему принесла».
«Кинфии глазки меня впервые пленили…»
Кинфии глазки меня впервые пленили, к несчастью,
А до того никакой страсти я вовсе не знал.
Очи потупило вмиг перед ней самомненье былое:
Голову мне придавил резвой ногою Амур.
Он приохотил меня не любить непорочных красавиц,
Дерзкий, заставив мою. без толку жизнь проводить.
Вот уже целый год любовным огнем я пылаю,
Боги, однако же, всё неблагосклонны ко мне.
Меланион, о Тулл, жестокость смирил Иасиды
Тем, что на подвиг любой он безбоязненно шел:
Как одержимый блуждал в пещерах горы Парфенийской
И на охоту ходил он на косматых зверей;
Он и от боли стонал, оглашая аркадские скалы
В час, когда злобный Гилей ранил дубиной его.
Этим он мог покорить быстроногой девушки сердце:
Значат не мало в любвгг подвиги, слезы, мольбы.
Мне же ленивый Амур не придумает новых уловок,
Да и привычный свой путь он уж давно позабыл.
Вы, что морочите нас, Луну низвести обещая,
Трудитесь жертвы слагать на чародейный алтарь, —
Сердце моей госпожи склоните ко мне поскорее,
Сделайте так, чтоб она стала бледнее меня.
Смело поверю тогда, что созвездья дано низводить вам,
Реки назад возвращать силой колхидской волшбы.
Вы ж, дорогие друзья, с запоздалым своим утешеньем
Сердцу, больному от мук, дайте лекарства скорей:
Стойко я буду терпеть и нож, и боль прижиганья,
Лишь бы свободно излить все, чем бушует мой гнев.
Мчите к чужим племенам, по волнам вы меня уносите,
Чтобы из жен ни одна мой не открыла приют.
Здесь оставайтесь, кому Амур, улыбаясь, кивает,
И наслаждайтесь всегда счастьем взаимной любви.
Мне же Венера, увы, посылает лишь горькие ночи,
И никогда не замрет, тщетно пылая, любовь.
Бойтесь вы этого зла: пусть каждого милая держит
Крепко, привычной любви он да не сменит вовек.
Если же вовремя вы не проникнитесь мудрым советом,
Позже с какою тоской вспомните эти слова!
«Там, где блаженствуешь ты…»
Там, где блаженствуешь ты, прохлаждаешься, Цинтия, —
в Байах, —
Где Геркулеса тропа вдоль по прибрежью бежит,
Там, где любуешься ты на простор, подвластный феспротам,
Или на синюю зыбь у знаменитых Мизен, —
Там вспоминаешь ли ты обо мне в одинокие ночи?
Для отдаленной любви есть ли местечко в душе?
Или какой-нибудь враг, огнем пылая притворным,
Отнял, быть может, тебя у песнопений моих?
Если бы в утлом челне, доверенном маленьким веслам,
Воды Лукрина могли дольше тебя удержать!
Если б могли не пустить стесненные воды Тевфранта,
Гладь, по которой легко, руку меняя, грести…
Лишь бы не слушала ты обольстительный шепот другого,
Лежа в истоме, в тиши, на опустевшем песке!
Только лишь страх отойдет, — и неверная женщина тотчас
Нам изменяет, забыв общих обоим богов.
Нет, до меня не дошло никаких подозрительных слухов…
Только… ты там, а я здесь… вот и боишься всего.
О, не сердись, если я поневоле тебе доставляю
Этим посланием грусть… Но виновата — боязнь.
Оберегаю тебя прилежней матери нежной.
Мне ли, скажи, дорожить жизнью моей без тебя?
Цинтия, ты мне и дом, и мать с отцом заменила,
Радость одна для меня — ежеминутная — ты!
Если к друзьям прихожу веселый или, напротив,
Грустный, — «Причина одна: Цинтия!» — им говорю.
Словом, как можно скорей, покидай развращенные Байи, —
Много разрывов уже вызвали их берега,
Ах, берега их всегда во вражде с целомудрием женским…
Сгиньте вы с морем своим, Байи, погибель любви!
«Эти пустыни молчат и жалоб моих не расскажут…»
Эти пустыни молчат и жалоб моих не расскажут,
В этом безлюдном лесу царствует только Зефир:
Здесь я могу изливать безнаказанно скрытое горе,
Коль одинокий утес тайны способен хранить.
Как же мне, Кинфия, быть? С чего мне начать исчисленье
Слез, оскорблений, что ты, Кинфия, мне нанесла?
Я, так недавно еще счастливым любовником слывший,
Вдруг я отвергнут теперь, я нежеланен тебе.
Чем я твой гнев заслужил? Что за чары тебя изменили?
Иль опечалена ты новой изменой моей?
О, возвратись же скорей! Поверь, не топтали ни разу
Мой заповедный порог стройные ножки другой.
Хоть бы и мог я тебе отплатить за свои огорченья,
Все же не будет мой гнев так беспощаден к тебе,
Чтоб не на шутку тебя раздражать и от горького плача
Чтоб потускнели глаза и подурнело лицо.
Или, по-твоему, я слишком редко бледнею от страсти,
Или же в речи моей признаков верности нет?
Будь же свидетелем мне, — коль знакомы деревья с любовью,
Бук и аркадскому ты милая богу сосна!
О, как тебя я зову под укромною тенью деревьев,
Как постоянно пишу «Кинфия» я на коре!
Иль оскорбленья твои причинили мне тяжкое горе?
Но ведь известны они лишь молчаливым дверям.
Робко привык исполнять я приказы владычицы гордой
И никогда не роптать громко на участь свою.
Мне же за это даны родники да холодные скалы,
Должен, о боги, я спать, лежа на жесткой траве,
И обо всем, что могу я в жалобах горьких поведать,
Должен рассказывать я только певуньям лесным.
Но, какова ты ни будь, пусть мне «Кинфия» лес отвечает.
Пусть это имя всегда в скалах безлюдных звучит.
«Кто бы впервые ни дал Амуру обличье ребенка…»
Кто бы впервые ни дал Амуру обличье ребенка, —
Можешь ли ты не назвать дивным его мастерство?
Первый ведь юн увидал, что влюбленный живет безрассудно,
Ради пустейших забот блага большие губя.
Он же Амура снабдил и парою крыльев летучих,
И человечьих сердец легкость он придал ему:
Право же, носимся мы всю жизнь по изменчивым волнам,
Нас то туда, то сюда ветер все время влечет.
Держит рука у него, как и должно, с зазубриной стрелы,
И за плечами стрелка кносский привязан колчан:
Мы и не видим его, а он уже ранил беспечных,
Из-под ударов его цел не уходит никто.
Стрелы засели во мне, засел и ребяческий образ;
Только сдается, что он крылья свои потерял,
Нет, из груди у меня никогда он, увы, не умчится
И бесконечно ведет войны в крови у меня.
Что же за радость тебе гнездиться в сердцах иссушенных?
Стрелы в другого мечи, если стыда не забыл!
На новичках твой яд испытывать, право же, лучше:
Ведь не меня ты, мою мучаешь жалкую тень;
Если погубишь ее, кто другой воспевать тебя будет?
Легкая Муза моя славу тебе создает:
Славит она и лицо, и пальцы, и черные очи
Той, что ступает легко нежною ножкой своей.
«Тайну хотите узнать своего вы последнего часа…»
Тайну хотите узнать своего вы последнего часа,
Смертные, и разгадать смерти грядущей пути,
На небе ясном найти путем финикийской науки
Звезды, какие сулят людям добро или зло;
Ходим ли мы на парфян или с флотом идем на британцев, —
Море и суша таят беды на темных путях.
Сызнова плачете вы, что своей головы не спасете,
Если на схватки ведет вас рукопашные Марс;
Молите вы и о том, чтобы дом не сгорел и не рухнул
Или чтоб не дали вам черного яда испить.
Знает влюбленный один, когда и как он погибнет:
Вовсе не страшны ему бурный Борей и мечи.
Пусть он даже гребцом под стигийскими стал тростниками,
Пусть он, мрачный, узрел парус подземной ладьи:
Только бы девы призыв долетел до души обреченной —
Вмиг он вернется с пути, смертный поправши закон.