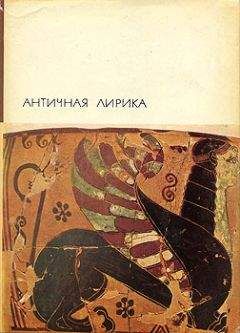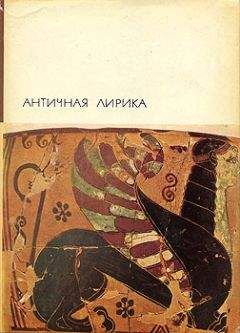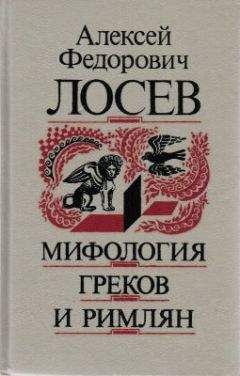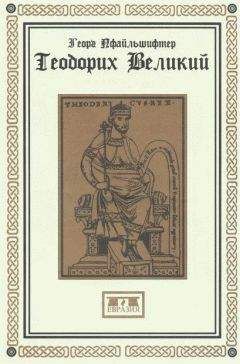Диана-охотница из Стабии. Неаполь, музей
«Год на исходе. Зефир холода умеряет…»
Год на исходе. Зефир холода умеряет. Докучно
Тянется для томитян зимний томительный срок.
Золоторунный баран, не донесший до берега Геллу,
В небе уравнивает длительность ночи и дня,
Весело юным рукам собирать полевые фиалки,
Дань деревенской красы — сами фиалки взошли.
В пестроузорчатый плат рядятся луга, зацветая,
Птица встречает весну горлом болтливым: ку-ку!
Только б вину искупить, под стропилами крыш хлопотливо
Ласточка, грешная мать, гнездышко птенчикам вьет.
Выпрыснул злак из земли, в бороздах таимый Церерой,
Чуть огляделся — и ввысь тянется нежный росток.
Всюду, где зреет лоза, проступают почки на ветке, —
Только от Гетской земли лозы мои далеки.
Всюду, где есть дерева, набухают буйно побеги, —
Только от Гетской земли те дерева далеки.
Ныне… там отдых в чести. Отошли говорливые тяжбы
Красноречивых витий Форума. Играм черед.
Тут скаковые дела, тут на копьях, мечах поединки,
Дротики мечут, звеня, вертится обруч юлой.
Юность проточной водой, из источника Девы, смывает
С тел, утомленных борьбой, масла лоснящийся след.
Сцена царит. Горячи взрывы жаркие рукоплесканий.
Три театра гремят форумам трижды взамен.
Трижды счастливы! Стократ! Числом не исчислить все
счастье
Тех, кому в городе жить не возбраняет приказ.
Здесь же… я вижу, снега растопило вешнее солнце,
Не пробивают уже проруби в тверди озер.
Море не сковано льдом. И погонщик-сармат, понукая,
Не волочит через Истр нудный, скрипучий обоз.
Медленно будут сюда прибывать одинокие шкуны:
Будет качаться корма — гостья понтийских причал.
Я поспешу к моряку. Обменяюсь приветом. Узнаю:
Кто он, откуда, зачем прибыл, из дальних ли мест?
Диво, коль он не пришлец из ближайших приморских окраин
И безопасным веслом не взбородил нашу зыбь.
Редкий моряк поплывет из Италии этаким морем,
Редко приманит его берег унылый, без бухт.
Если же гость обучен латинской иль эллинской речи,
Звуком пленит дорогим — есть ли что сердцу милей!
Только обычно сюда от пролива и волн Пропонтиды
Гонит, надув паруса, ветер попутный суда.
Кем бы ты ни был, моряк, но отзвук молвы отдаленной
Все ж перескажет и сам станет ступенью молвы.
Только бы он передал о триумфах Тиберия слухи
И об обетах святых Августа — бога страны,
И о тебе не забыл, бунтовщица Германия; низко ль
Ты к полководца ногам грустной склонилась главой?
Кто перескажет, тому — хоть прискорбно, что сам я не видел, —
Двери в доме моем я широко распахну.
В доме? Увы мне, увы! Дом Назона не в дебрях ли скифских?
И не свое ли жилье Кара мне в лары дала?
Боги, пусть эту юдоль каратель не домом до гроба —
Только приютом на час, долей случайной сочтет.
«Если с плющом на челе мой портрет у тебя сохранился…»
Если с плющом на челе мой портрет у тебя сохранился,
Праздничный Вакхов венок сбрось с его гордых волос:
Этот веселый убор подобает счастливым поэтам,
Но не опальной главе быть изваянной в венке.
Что говорю! Притворись, будто ты не услышал признанья,
Сердцем пойми, — иль зачем носишь на пальце меня?
Ты в золотой ободок мой образ оправил, и ловит
В нем дорогие черты друга-изгнанника взор.
Смотришь, и, мнится, не раз замирал на губах твоих возглас:
«Где ты, далекий мой друг и собутыльник, Назон?»
Благодарю за любовь. Но стихи мои — высший портрет мой.
Их поручаю тебе, ты их по дружбе прочти:
О превращенье людей повествуют они, чередуясь.
Труд довершить до конца ссылка творцу не дала.
Я, удаляясь, тогда в сокрушенье своими руками
Бросил творенье свое в пламя… — и много других.
Ты Мелеагра сожгла, родимого сына, Алфея,
Испепелив головню, мать уступила сестре.
Я, обреченный судьбой, мою книгу, мой плод материнский,
Сам погибая, обрек жарким объятьям костра,
Муз ли, повинных в моем прегрешении, возненавидя?
Труд ли, за то, что незрел и, словно щебень, шершав?
Но не погибли стихи безвозвратно — они существуют:
Много гуляло тогда списков тех строк по рукам.
Пусть же отныне живут, услаждая досуг не бесплодно
Тем, кто читает стихи. Вспомнят они обо мне.
Впрочем, кто в силах прочесть не досадуя, если не знает,
Что завершающий лоск мной не наведен на них.
Труд с наковальни был снят, недокованный молотом. Тонко
Твердый напильник его отшлифовать не успел.
Не похвалы я ищу, а милости. Счел бы за счастье,
Если, читатель, тебе я не наскучу вконец
Ты шестистрочье мое в заголовке вступительной, первой
Книжки моей помести, если готов предпослать.
«Свитка, утратившего стихотворца, рукой ты коснулся.
Место да будет ему в Городе отведено.
Благоволенье излей, памятуя: не сам сочинитель
Свиток издал. Он добыт, верно, с его похорон».
Если погрешность найдешь в неотделанных строках, охотно
Я бы исправил ее… но не судила судьба.
«Что ты злорадно, наглец, над моею бедою ликуешь…»
Что ты злорадно, наглец, над моею бедою ликуешь,
Кровью дыша, клеветой усугубляешь вину?
Ты из утробы скалы народился, выкормок волчий,
Я говорю: у тебя — камень в бездушной груди.
Где же предел, укажи, где вал твоей ярости схлынет?
Иль не до края полна горести чаша моя?
Варваров орды кругом, берега неприютного Понта,
Шаг мой и вздох сторожит звездной Медведицы взор.
Слышу дикарский язык. Перемолвиться не с кем поэту;
Только тревога да страх в этих недобрых местах.
Словно олень на бегу, наскочивший на лапы медвежьи,
Словно овечка в кольце горных свирепых волков,
Так в окруженье племен воинственных, степью теснимый,
Ужасом сжатый, живу: враг что ни день на плечах.
Или за милость мне счесть эту казнь? Подруги лишенный,
Родины, дружбы, детей, — здесь, на чужбине, один?
Иль не карают меня? Только Цезаря гнев надо мною?
Но разве Цезаря гнев — малая кара и казнь?
Есть же любители, есть растравлять незажившую рану
И распускать языком сплетни о нраве моем!
Где возражать не дано, там любой краснобай — громовержец.
Все, что потрясено, наземь свалить легко.
Башен оплот сокрушать — высокой доблести дело,
То, что упало, топтать — подлого труса почин.
Нет, я не то, чем я был. Что же призрак пустой поражаешь?
Камни, один за другим, мечешь в мой пепел и прах?
Гектор-воитель, в бою — был Гектором. Но, по равнине
Жалко влачимый в пыли, Гектором быть перестал.
Не вспоминай же, каким ты знавал меня в годы былые:
Только подобие я — бывшего смутная тень.
Что же попреками ты эту тень язвишь и бичуешь?
О, пощади, не тревожь мрака печальной души.
Пусть, так и быть, полагай, что мои обвинители правы,
Что заблужденье мое умысел злой отягчил,
Вот я — изгнанник, взгляни, насыть свою душу! Двойную
Кару несу: тяжка ссыльному глушь и судьба.
Даже палач площадной оплакал бы жребий поэта.
Все же нашелся судья кару завидной признать.
Ты Бузирида лютей, ты зверее безумца, который
Медленно, зло раскалял медное чрево быка,
Сам же, глупец, подарил свою медь Сицилийцу-тирану,
Так восхваляя ему изобретателя дар:
«В этой диковине, царь, механизм превосходит картинность,
В ней не одна красота форм вызывает хвалу.
Створка чудесная здесь на боку быка притаилась.
Хочешь кого погубить, тело в отверстие брось.
Бросил — и жги не спеша, жар огня нагнетая… И тут-то
Бык замычит — и живым будет мычанье быка.
Дай мне за выдумку, царь, за подарок высокий подарок,
Чтобы достойна творца эта награда была».
Высказал. Тут Фаларид воскликнул: «О выдумщик дивный,
Сам на себе испытай дивного вымысла мощь!»
Долго ли, коротко — вдруг, жестоким терзаемый жаром,
Длительный рев испустил выдумщик мудрый, мыча.
Сгинь, сицилийская быль! Далеко ты от скифов и гетов.
Я возвращаюсь в тоске, кто бы ты ни был, к тебе.
Что же, скорей утоляй свою жажду кровью поэта,
Празднуй, ликуй, до конца жадное сердце потешь.
Я по пути испытал столько бедствий на суше и море,
Что злополучья мои тронули б даже тебя.
Если бы с ними сравнить скитанья Улисса, поверь мне,
Гнева Нептуна сильней грозный Юпитера гнев.
Как бы ты ни был могуч, а я грешен — греха не касайся,
Руки жестокие прочь! Не береди моих ран.
Пусть заглохнет молва о «злодействе» поэта Назона,
Дай затянуться рубцом этим минувшим делам.
Вспомни о судьбах людских! Переменчивы судьбы: возносят
Ныне, а завтра гнетут. Бойся, всему свой черед.
Ты к испытаньям моим проявляешь чрезмерное рвенье.
Я бы мечтать не посмел о дружелюбье таком.
Не благоденствую, нет. Опасенья напрасны. Уймись же!
Горе за горем влечет Цезаря гнев за собой.
Чтобы проникся, постиг, не за вымыслы счел мои скорби:
Дай тебе бог испытать ту же печаль и судьбу.