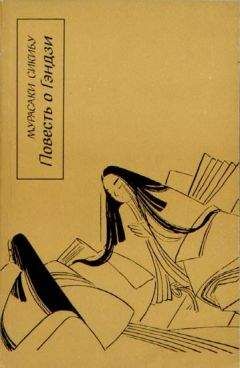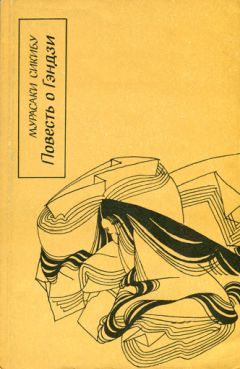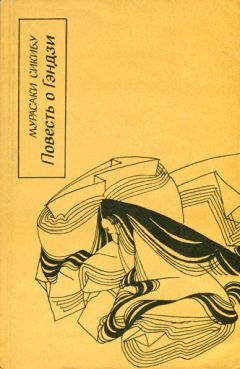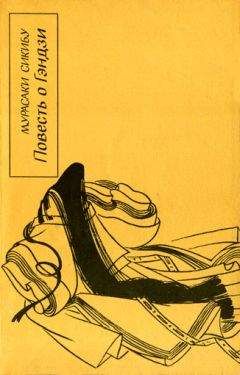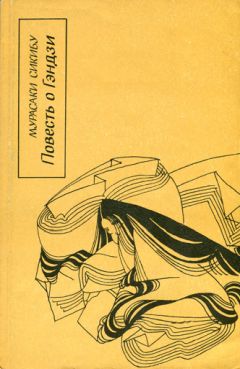Дары для монахов, читающих сутры, были присланы и из дома на Шестой линии. Разумеется, о многом позаботился и Сайсё-но тюдзё, проявив поистине трогательную предусмотрительность.
Когда день склонился к вечеру, все двинулись в обратный путь. Цветы, осыпаясь с веток, кружились в воздухе, по земле стлалась вечерняя дымка, погружая окрестности в неясную мглу. Уносясь мыслями в прошлое, министр умиленно шептал какие-то старые песни. Сайсё-но тюдзё, очарованный удивительной красотой вечернего пейзажа, ехал, глубоко задумавшись, и не очнулся даже тогда, когда люди вокруг зашумели: «Кажется, собирается дождь!» Министр Двора, очевидно тронутый задумчивым видом Сайсё-но тюдзё, потянул его за рукав.
– Неужели вы до сих пор сердитесь. – спросил он. – Подумайте о той, что соединила нас сегодня в этом храме, и постарайтесь простить меня. Скорее я могу обижаться на вас за пренебрежение, которое вы выказываете мне, забывая о том, что век мой близится к концу.
– О да, ведь и ушедшая завещала мне во всем полагаться на вас, – смущенно ответил юноша, – но, увы, видя, что вы не удостаиваете меня внимания…
Тут полил страшный дождь, подул ветер, и все бросились кто куда.
Сайсё-но тюдзё был в недоумении: никогда раньше министр Двора не говорил с ним так ласково. Разумеется, он сразу же подумал о девушке, и хотя министр не сказал ничего определенного… От волнения Сайсё-но тюдзё всю ночь не смыкал глаз, о том о сем размышляя…
Неужели было наконец вознаграждено его терпение? Министр явно собирался уступить и ждал подходящего случая…
В начале Четвертой луны в саду министра Двора расцвели глицинии, да так пышно, как еще не бывало. Желая достойно отметить это событие, министр собрал в своем доме гостей. Любуясь цветами, гости услаждали слух музыкой. В сумерках, когда цветы казались особенно яркими, министр отправил к Сайсё-но тюдзё одного из своих сыновей, То-но тюдзё.
«Не могу не сожалеть о том, что наша встреча под сенью цветов была столь непродолжительной… Коли имеете досуг, не соблаговолите ли наведаться ко мне…» – передал он на словах, в письме же написал следующее:
«В нашем саду
Так ярки сегодня глицинии,
Быть может, и ты
Придешь в этот час вечерний,
Чтобы проститься с весной?..»
Письмо было привязано к ветке глицинии и в самом деле поразительно прекрасной. Столь долгожданное послание заставило сердце Сайсё-но тюдзё несказанно забиться, и он почтительно произнес:
– Удастся ль сорвать?
Среди прекрасных глициний
Снова блуждаю.
В сумрачной дымке вечерней
Все так неясно, так зыбко…
Впрочем, боюсь, что ответил невпопад… – добавил он. – Но, может быть, вы согласитесь замолвить за меня словечко?
– Я готов быть вашим проводником. – ответил То-но тюдзё.
– О, такой чести я не заслуживаю. – возразил Сайсё-но тюдзё и отправил его обратно. А сам прошел в покои отца и показал ему письмо.
– Видно, министр Двора что-то задумал, раз ведет себя так. – сказал Гэндзи. – Если он решился наконец сделать первый шаг, то я готов простить ему даже ту непочтительность, которую он проявил когда-то по отношению к своей престарелой родительнице.
Право, в его самоуверенном тоне было что-то неприятное.
– Не думаю, чтобы речь шла именно об этом. Скорее всего он просто хочет немного развлечься, воспользовавшись тем, что глицинии возле его дома расцвели пышнее обыкновенного, а поскольку время сейчас спокойное. – ответил Сайсё-но тюдзё.
– Так или иначе, он нарочно прислал гонца, поэтому советую тебе поспешить.
Не умея проникнуть в намерения министра Двора, Сайсё-но тюдзё не знал, что и думать, и с трудом скрывал волнение.
– Полагаю, что тебе лучше не надевать темного платья. Синий цвет к лицу молодым людям, не занимающим значительного положения в мире. А ты можешь позволить себе что-нибудь понаряднее, – посоветовал Великий министр и, выбрав из собственных платьев особенно изысканное носи и несколько нижних одеяний, вручил их телохранителю сына, чтобы тот отнес в его покои.
Вернувшись к себе, Сайсё-но тюдзё долго наряжался и появился в доме министра Двора, когда совсем уже стемнело и хозяин начал проявлять нетерпение. Семь или восемь сыновей министра во главе с То-но тюдзё вышли навстречу гостю и провели его в покои отца. Все они были хороши собой, но ни один не мог сравниться с Сайсё-но тюдзё, пленявшим взоры нежной прелестью лица, стройностью стана, изяществом манер…
Министр позаботился о том, чтобы Сайсё-но тюдзё был оказан любезный прием. Сам же облачился в парадное платье и, собираясь выйти к гостю, сказал госпоже Северных покоев и прислуживающим ей дамам:
– Постарайтесь разглядеть его потихоньку. Сайсё-но тюдзё очень красив и с годами становится все прекраснее. А с каким достоинством он держится! Он затмевает всех, и мне иногда кажется, что теперь, когда красота его достигла расцвета, он превосходит даже своего отца. Разумеется, Великий министр отличается поистине необыкновенным изяществом и редким обаянием – на него глядя, невольно забываешь о печалях мирских и не можешь удержаться от улыбки. Правда, иной раз он обнаруживает недостаток твердости при решении государственных дел, но что тут удивительного? При его утонченности… А сын – и это признают все – превзошел отца в науках, к тому же он гораздо мужественнее и рассудительнее.
Принарядившись, министр вышел к гостю. Обменявшись с ним церемонными приветствиями, он перевел разговор на цветы.
– Весенние цветы прекрасны, спору нет. Кто не восхищается, глядя, как раскрываются они один за другим, поражая разнообразием оттенков? Но, непостоянные, они покидают нас, опадая. Когда же мы печалимся, о них сожалея, вдруг зацветает глициния и цветет «до самого лета» (265). Именно это и придает ей столь неповторимое очарование в наших глазах. Да и цвет доставляет тайную отраду сердцу[2]…
Тут министр многозначительно улыбается, и улыбка сообщает его лицу особую прелесть.
На небо выплывает луна, но цветы неразличимы в окутавшей сад дымке. Это, однако, не мешает министру восхвалять их, одновременно потчуя гостей вином и услаждая их слух музыкой. Притворяясь сильно захмелевшим, он то и дело подносит Сайсё-но тюдзё чашу, и тот при всей осмотрительности своей не умеет отказаться.
– Вас по заслугам считают одним из ученейших мужей Поднебесной, – говорит министр. – Право, вы слишком хороши для этих последних времен. Жаль только, что вы пренебрегаете мною, словно не замечая, что годы мои близятся к концу. Даже в старинных книгах говорится о почтительности к старейшинам рода. Вы не можете не знать, чему учат нас древние мудрецы, и все же огорчаете меня невниманием.
Плача, разумеется, хмельными слезами, он довольно ловко приоткрывает свои тайные мысли.
– О, как вы можете так думать? Я всегда видел в вас замену ушедшей и готов был ради вас пожертвовать собственной жизнью. Чем заслужил я такие упреки? Простите, но, наверное, по неразумению своему и тупости я не в силах понять. – оправдывается Сайсё-но тюдзё, и министр, сочтя обстоятельства благоприятными, произносит:
– «Листья с изнанки простодушно открыла глициния…» (256)
Поняв намек, То-но тюдзё срывает самую пышную и яркую кисть глицинии и подносит ее гостю вместе с чашей вина. Видя, что тот, приняв цветы, не знает, что с ними делать, министр говорит:
– Станем ли мы
На эти глицинии сетовать?
Цвет их так ярок…
Вот только старой сосне
Слишком долго ждать их пришлось…
Сайсё-но тюдзё берет чашу и, отдавая дань приличиям, с изяществом склоняется в благодарственном поклоне.
– Как часто весна
Увлажняла росою холодной
Мои рукава.
Неужели сегодня и для меня
Эти цветы расцвели? (267)
С этими словами он передает чашу То-но тюдзё:
– Кисти глицинии
Напомнили мне рукава
Девы прелестной.
Под любящим взором все ярче,
Пышней расцветают они…
Так передавали они чашу один другому, но скоро совсем захмелели и песни их стали довольно невнятны; во всяком случае, ничего боле значительного сказано не было.
В небе тускло светился семидневный месяц, отражаясь в темной зеркале пруда. Деревья еще не радовали взоры пышной листвой, но причудливо искривленные сосны, хотя и не такие уж высокие, казались необыкновенно утонченными из-за свисающих с них цветущих глициний.
Все тот же Бэн-то сёсё звонко запел «Тростниковую изгородь»[3].
– Что за странный выбор. – удивился министр и, поддевая, изменил слова: «Видно, из старого дома…» Голос его звучал прекрасно. До поздней ночи веселились они, и от былых обид не осталось и следа. Когда совсем стемнело, Сайсё-но тюдзё, притворившись захмелевшим, пожаловался То-но тюдзё:
– Я чувствую себя слишком неуверенно. Боюсь, что мне не добраться до дому… Не уступите ли вы мне на ночь свою опочивальню?