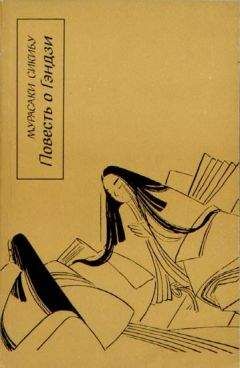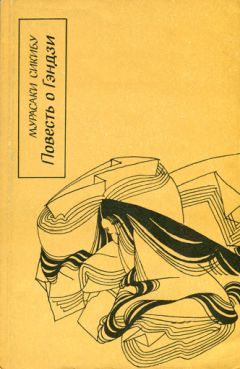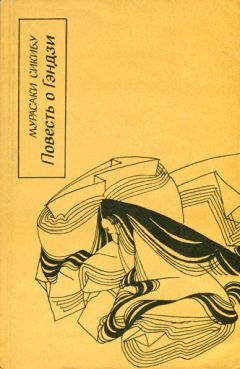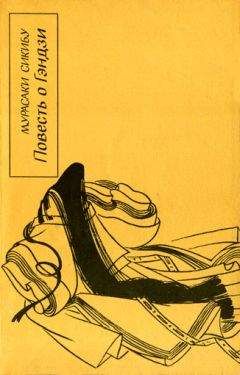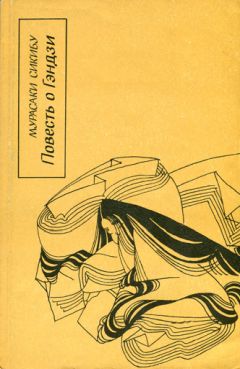В другое время она не преминула бы заплакать, однако на сей раз ее мысли были заняты предстоящим отъездом: радостное волнение, владевшее душой, не оставляло места для печали.
— Ваш отец всегда презирал меня за то, что я якобы запятнала честь семьи, — говорила она, — и, пока он был жив, мы почти не сообщались. Но неужели вы думаете, что все эти годы я не испытывала к вам родственных чувств? Просто я не осмеливалась напоминать о себе столь знатной особе, а уж когда счастливая судьба связала вас с господином Дайсё, к вам и вовсе невозможно стало подступиться. Разумеется, все это отнюдь не способствовало нашему сближению. Но, как видите, мир полон превратностей, и иногда судьба оказывается благосклоннее к таким ничтожным особам, как я. Когда-то вы находились на недостижимой для меня высоте, но теперь ваше положение не может вызывать ничего, кроме жалости и сочувствия. Живя близко, я не особенно беспокоилась за вас, даже если некоторое время и не оказывала вам никаких услуг. Но теперь я уезжаю далеко, и меня тревожит ваша дальнейшая судьба.
— Я вам крайне признательна, — церемонно отвечала дочь принца, — но при моем столь необычном образе жизни стоит ли, право… Я бы предпочла умереть здесь, в родном доме.
— Образ жизни у вас и в самом деле необычен. Где это видано, чтобы молодая женщина похоронила себя заживо в столь отвратительном жилище! О, я не сомневаюсь, что, если господин Гон-дайнагон соблаговолит заняться этими развалинами, они очень быстро превратятся в сверкающий, драгоценный чертог. Но должна вам сказать, что в настоящее время, судя по всему, господин Гон-дайнагон все сердечные попечения свои сосредоточил на дочери принца Хёбукё. Он порвал связи со всеми домами, куда захаживал в былые дни, повинуясь прихоти своего непостоянного сердца. Тем более сомнительно, чтобы он почтил своим вниманием особу, которая влачит столь жалкое существование в этих диких зарослях. Разумеется, вы хранили ему верность и надеялись на него все эти долгие годы, но неужели вы воображаете, что этого достаточно?.. — поучала племянницу супруга Дадзай-но дайни, и та, понимая, что в ее словах есть доля истины, совсем расстроилась и горько заплакала.
Тем не менее она упорно стояла на своем, и, почувствовав, что добиться ее согласия не удастся, супруга Дадзай-но дайни вынуждена была отступить.
— Что ж, отпустите хотя бы Дзидзю, — сказала она, спеша уехать, пока не стемнело, и Дзидзю, не в силах превозмочь волнения, залилась слезами.
— Раз она так настаивает, я поеду хотя бы для того, чтобы проводить ее. Нельзя не признать справедливости ее слов, но и ваше нежелание ехать мне тоже понятно. Право, мое положение более чем затруднительно, — тихонько сказала Дзидзю своей госпоже.
Нетрудно представить себе, как горько и обидно было дочери принца! В самом деле, могла ли она предугадать, что даже Дзидзю… Впрочем, удерживать ее она не стала, только все плакала и плакала не переставая.
На память о вместе проведенных годах следовало бы подарить Дзидзю одно из своих платьев, но все они оказались слишком изношенными других же вещей, приличествующих случаю, у дочери принца не нашлось, и в конце концов она решила подарить ей сделанную из собственных выпавших за последнее время волос прекрасную накладку длиной более девяти сяку. Накладку она положила в шкатулку, присовокупив к ней горшочек с тончайшими старинными благовониями.
— Мне казалось всегда:
Неразрывно со мною связаны
Драгоценные пряди.
Но, увы, и они теперь
Готовы меня покинуть.
А я-то надеялась, что, несмотря на мою ничтожность, ты останешься со мною до конца, как того хотела твоя покойная матушка. Что ж, может быть, ты и права. Но подумала ли ты о том, кто будет обо мне теперь заботиться? Как все это обидно, право… — И дочь принца снова зарыдала.
Дзидзю ответила не сразу:
— Ах, что говорить теперь о завете матушки! Долгие годы мы прожили вместе, разделяя друг с другом горести этого мира, и вот меня влекут в чужие, дальние земли…
Драгоценные пряди,
Расставшись с тобою, твоими
Навеки останутся.
Будьте клятве моей свидетелями,
Боги-хранители путников.
Только кто может знать, что нас ждет впереди?
— Да где же она? Уже совсем стемнело… — ворчала между тем супруга Дадзай-но дайни, и Дзидзю, с неспокойным сердцем сев в карету, долго еще оглядывалась.
Когда они уехали, дочери принца стало совсем одиноко, ведь прежде только присутствие Дзидзю и скрашивало ее унылое существование. Теперь даже старые, ни к чему не пригодные дамы начали поговаривать:
— Что ж, госпожа Дзидзю совершенно права. Разве можно жить в этом доме? Вряд ли и у нас достанет терпения.
Никто из них не имел желания оставаться, каждая пыталась извлечь из памяти давние связи, к которым прибегнув можно было бы подыскать другое место, а дочь принца, прислушиваясь к их разговорам, трепетала от страха и стыда.
Наступил месяц Инея. Часто шел снег или град. В других садах он успевал таять, а здесь, в зарослях полыни и хмеля, куда ни утром, ни вечером не проникали солнечные лучи, лежал сугробами, при взгляде на которые невольно вспоминалась Белая гора в Коси.[339] В доме не было даже слуг, которые могли бы оставить следы на этом снегу, и дочь принца целыми днями уныло глядела на его нетронутую белизну. Она осталась совсем одна, ей не с кем было даже словом перемолвиться, не с кем поплакать или посмеяться. Ночами она лежала без сна под пыльным пологом, и сердце ее разрывалось от тоски.
Тем временем в доме на Второй линии царило радостное оживление, и, почти не имея досуга, Гэндзи не мог навещать особ, кои не были предметом постоянных его попечений. И уж тем более он не торопился к дочери принца Хитати, хотя иногда и вспоминал о ней: дескать, жива ли? Так шло время, и скоро еще один год сменился новым.
Однажды в дни Четвертой луны Гэндзи вспомнил о Саде, где опадают цветы, и, простившись с госпожой из Западного флигеля, тайком отправился туда.
Накрапывал дождь, который не прекращался вот уже несколько дней, сквозь тучи проглядывала луна. Думы Гэндзи невольно устремились в прошлое, и многое вспомнилось ему, пока ехал он по этой вечерней дороге. Путь его лежал мимо какого-то полуразвалившегося дома, окруженного мрачными купами деревьев, придававшими саду вид диких лесных зарослей. Цветущая глициния обвивала могучие ветви сосны, лепестки трепетали в лунном свете, ветерок разносил повсюду нежное благоухание…
Привлеченный этим чудесным ароматом, пусть и не померанцевыми цветами источаемым, Гэндзи высунул голову из кареты: неподалеку росли плакучие ивы, а как стена уже не могла удержать их, ветви, спутавшись, лежали прямо на земле. «Как будто я уже видел когда-то эти деревья!» — подумалось Гэндзи. И действительно, это был тот самый дом, где он бывал в прежние времена. Сердце его забилось от волнения, и он велел остановиться.
Корэмицу, в подобных случаях неизменно сопровождавший своего господина, был с ним и этой ночью. Подозвав его, Гэндзи тихонько спросил:
— Ведь это здесь был дом принца Хитати?
— Совершенно верно, — ответил Корэмицу.
— Быть может, та женщина по-прежнему живет здесь в печальном одиночестве… Следовало бы давно навестить ее, но слишком обременительно было ехать для того только, чтобы увидеться с ней. А сейчас как раз подходящий случай… Разузнай сначала, что и как, а потом уж заводи разговор. А то, если на ее месте окажется другая, можно попасть в глупое положение.
Между тем дочь принца, которой в последние дни было как-то особенно грустно, сидела в своих покоях, погруженная в глубокую задумчивость. Днем, задремав, она увидела во сне покойного отца и, проснувшись, совсем приуныла: «Ах, был бы он рядом!» Приказав подмести часть передних покоев, где было мокро от проникающего сквозь кровлю дождя, она распорядилась, чтобы дамы привели в порядок сиденья, и, занимаясь столь непривычными для нее повседневными делами, сложила такую песню:
Тоска по ушедшему
Неизбывна, никак не просохнут
Мои рукава.
А теперь еще капли дождя
На них с ветхой стрехи упали…
Неизъяснимо тяжело было у нее на сердце.
Войдя в дом, Корэмицу прислушался, не доносятся ли откуда-нибудь голоса. Но он не заметил никаких признаков человеческого присутствия.
«Так и есть, я ведь и раньше не раз заглядывал сюда, проходя мимо, и дом всегда казался необитаемым», — подумал Корэмицу и повернулся, чтобы уйти, но тут взошла луна, и он увидел, что решетки в двух пролетах подняты, сквозь них виднелись слегка колыхавшиеся занавеси. Это еле уловимое свидетельство того, что дом все-таки обитаем, произвело на Корэмицу жутковатое впечатление, но, превозмогая страх, он приблизился и покашлял, дабы привлечь к себе внимание. Изнутри тоже послышался кашель, и чей-то старческий голос спросил: