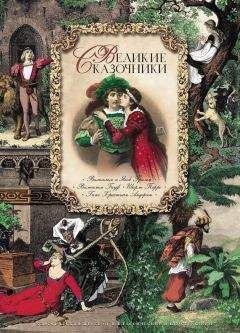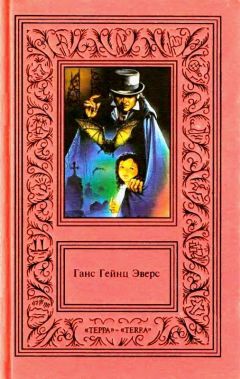Ознакомительная версия.
Невзирая на то, я шел все вперед, однако ж не ведая куда. Чем глубже я заходил в лес, тем более удалялся от людей: тогда претерпел и почувствовал я (неприметно для себя) действия неразумия и неведения; и безрассудный зверь на моем месте скорее нашел бы, как ему надлежит поступить для сохранения жизни. Однако же я был столь смышлен, что когда ночь опять застигла меня, то залез в дупло, прилежно схоронил любезную мою волынку и так приуготовил себя ко сну.
Симплиций в лесу отшельника слышит,
Повергся в ужас, сам еле дышит.
Едва приуготовил я себя ко сну, достиг моего слуха глас: «О, неизреченная любовь к неблагодарным людям! О, единственная моя отрада, упование мое, сокровище мое и бог мой!», а также иные подобные слова, чего не мог я ни запомнить, ни уразуметь. Такие речи по справедливости должны были доброго христианина, который бы оказался в тех обстоятельствах, в коих я находился, ободрить, развеселить и утешить. Однако ж, о, простота и невежество! То был для меня дремучий лес и невразумительный язык, какого я не токмо не мог постичь, но и от такой его странности пришел в трепет. А когда услыхал я, что говоривший сие утолит голод и жажду, надоумил меня нестерпимый голод и едва не ссохшийся от недостатка пищи желудок пригласить самого себя к столу; того ради собрался я с духом и отважился вылезти из дупла и приблизиться к тому гласу. Тут приметил я человека рослого, у коего предлинные черные волосы, подернутые сединой, спадали ниже плеч в великом беспорядке; борода у него всклокочена и кругла, почти как швейцарский сыр. Лик изжелта-бледен и худ, однако ж довольно приятен; долгий его кафтан покрыт превеликим множеством различных заплат, насаженных одна на другую, а шея и стан обвиты тяжелой железной цепью, ровно как у святого Вильгельма{32}, впрочем, вид его в моих глазах был столь гнусен и устрашителен, что я задрожал, как мокрый пес. Но что умножило мой страх, так это распятие, примерно в шесть футов длины, которое прижимал он ко груди, и так как в уме своем не имел я о нем никакого понятия, то не мог иного возомнить, кроме того, что седой этот старик, нет сомнения, волк, о ком мне незадолго перед тем сказывал батька. В таком страхе выскокнул я из дупла с моей волынкой, кою, единственное мое любезное и многоценное сокровище, я спас от всадников; я задудел, подал голос и дал о себе знать весьма зычно, дабы ужасного сего волка прогнать; столь внезапной и необычной музыкой в таком диком месте пустынник поначалу немало был изумлен, нет сомнения, полагая, что явилось ему бесовское наваждение тревожить его и смущать в благочестивых помыслах, как то случалось с Антонием Великим{33}. Но едва пришел он в себя, тотчас же стал глумиться надо мной, как над своим искусителем, скрывшимся в дупле, куда я снова забрался; да и столь ободрился, что наступал на меня, насмехаясь над врагом рода человеческого. «Эй, эй, — говорил он, — да ты, добрый товарищ, под стать святым без божьего произволения», и много иного, чего я не мог уразуметь, ибо приближение его произвело во мне такой испуг и ужас, что я лишился всех чувств и поник без памяти.
Симплиций находит себе кров и пищу,
С отшельником вместе живет, словно нищий.
Чьей помощью пришел я в себя, не знаю, но то верно, что, очнувшись, находился я уже не в дупле и голова моя лежала у старика на коленях, а ворот куртки был отстегнут. Когда я отудобел, то, видя пустынника в такой к себе близости, поднял немилосердный вопль, словно он в ту самую минуту собирался вырвать у меня из груди сердце. Он же, напротив, говорил: «Сын мой, молчи, я не причиню тебе зла, успокойся», — и многое другое. Но чем более утешал он меня и ласкал, тем отчаяннее я вопил: «О, ты сожрешь меня! Ты сожрешь меня! Ты волк и хочешь меня сожрать!» — «Вестимо же нет, — сказал он, — успокойся, я не съем тебя». Подобное барахтанье и ужасающий вой продолжались еще долго, покуда я не дозволил отвести себя в хижину, где сама бедность была гофмейстером, голод поваром, а недостаток во всем кухмистером. Там желудок мой усладился овощами и глотком воды, а помрачненный дух мой под утешительной лаской старца прояснился и воспрянул, того ради уступил я сладкому побуждению ко сну, отдавая долг натуре. Отшельник, приметя мою нужду, уступил мне свое место в хижине, ибо улечься там мог всего один человек. Около полуночи пробудился я и услышал следующую песнь, какой несколько времени спустя и сам научился:
Приди, друг ночи, соловей,{34}
Утешь нас песнею своей!
Пой, милый, веселее!
Воспой творца на небесах,
Уснули птицы на древах,
Один ты всех бодрее!
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних богу!
Хоть солнца луч погас давно,
Но нам и ночью петь вольно,
И тьма нам не помеха!
Восславить бога средь щедрот
И им ниспосланных доброт —
Отрада и утеха.
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних богу!
Пой нежно, как поют в раю,
Подхватит эхо песнь твою —
В ней неземная сладость.
Кто бренной жизнью утомлен,
Воспрянет, песнею взбодрен,
И внидет в сердце радость!
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних богу!
Безмолвны звезды в небесах,
Но ведом звездам божий страх —
Во славу бога светят!
В лесу сова в полночный час,
Хвалы заслышав сладкий глас,
Хоть воем, да ответит.
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних богу!
Так пой, любезный соловей!
Баюкай песнею своей!
Заснем мы сном блаженным!
А поутру зари восход
Отраду сердцу принесет
В лесу преображенном!
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних богу!
Среди такого продолжающегося пения поистине мнилось мне, как если бы соловей, также сова и далекое эхо соединились с ним в лад, и, когда бы мне довелось услышать утреннюю звезду или умел бы я передать ту мелодию на моей волынке, я ускользнул бы из хижины, дабы подкинуть и свою карту в игру, ибо гармония та казалась мне столь сладостной, но я заснул и пробудился не ранее того, как настал полный день и отшельник, стоя возле меня, говорил: «Вставай, малец, я дам тебе поесть и укажу путь из лесу, чтобы ты вышел к людям и до ночи пришел в ближнюю деревню». — «А что за штука такая люди и деревня?» Он сказал: «Неужто ты никогда не бывал в деревне и даже не ведаешь о том, что такое люди или, иным словом, человеки?» — «Нет, — сказал я, — нигде, как здесь, не был я, но ответь мне, однако, что такое люди, человеки и деревня?» — «Боже милостивый! — вскричал отшельник, — ты в уме или вздурился?» — «Нет, — сказал я, — моей матки и моего батьки мальчонка, вот кто я, и никакой я не Вуме, и никакой я не Вздурился». Отшельник изумился тому, со вздохом осенил себя крестным знамением и сказал: «Добро! Любезное дитя, по воле божьей решил я наставить тебя лучшему разумению». Засим начались вопросы и ответы, как то откроется в следующей главе.
Симплиций в беседе с отшельником сразу
Выводит наружу дурацкий свой разум.
Отшельник. Как зовут тебя?
Симплициус. Меня зовут мальчонка.
Отш. Я и впрямь вижу, что ты не девочка, а как звали тебя родители?
Симпл. А у меня не было родителей!
Отш. А кто же тогда дал тебе эту рубашку?
Симпл. А моя матка!
Отш. А как звала тебя твоя матка?
Симпл. Она звала меня мальчонка, а еще плут, осел долгоухий, болван неотесанный, олух нескладный и висельник.
Отш. А кто был муж твоей матери?
Симпл. Никто.
Отш. А с кем спала по ночам твоя матка?
Симпл. С батькой.
Отш. А как звал тебя батька?
Симпл. Он тоже звал меня мальчонка.
Отш. А как звали твоего батьку?
Симпл. Батькой.
Отш. А как кликала его матка?
Симпл. Батькой, а еще хозяином.
Отш. А иначе как она его не прозывала?
Симпл. Да, прозывала.
Отш. Как это?
Симпл. Пентюх, грубиян, нажравшаяся свинья, старый дристун и еще по-иному, когда бушевала.
Ознакомительная версия.