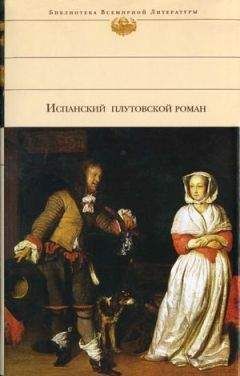Все это время меня постоянно навещал сын дона Алонсо Коронеля де Суньиги, которого звали доном Дьего. Он очень полюбил меня, ибо я всегда уступал ему мои волчки, если они были лучше, угощал его своим завтраком и не просил у него ничего из того, чем лакомился он сам. Я покупал ему картинки, учил его драться, играл с ним в бой быков и всячески его развлекал. В конце концов родители этого дворянчика, заметив, как увеселяло его мое общество, почти всегда просили моих родителей, чтобы они разрешали мне оставаться у них обедать, ужинать и даже ночевать.
Случилось как-то раз, в один из первых учебных дней после рождества, что, увидав на улице человека по имени Понсио де Агирре — был он, кажется, обращенным евреем, — дон Дьегито сказал мне:
— Слушай, назови его Понтием Пилатом и удирай.
Чтобы доставить удовольствие моему другу, я назвал этого человека Понтием Пилатом. Тот так разозлился на это, что с обнаженным кинжалом бросился за мной вдогонку, намереваясь меня убить. Я был вынужден со всех ног с криком устремиться в дом моего учителя. Понтий Пилат проник туда вслед за мною, но учитель загородил ему путь, дабы тот не прикончил меня, и уверил его, что я тотчас же получу должное наказание; несмотря на просьбы своей ценившей мою услужливость супруги, он велел мне спустить штаны и всыпал двадцать розог, приговаривая при каждом ударе:
— Будешь еще говорить про Понтия Пилата?
Я отвечал «нет, сеньор» на каждый удар, которым он меня награждал. Урок, полученный за Понтия Пилата, нагнал на меня такой страх, что когда на другой день мне было велено читать молитвы перед остальными учениками и я добрался до «Верую» — обратите внимание, ваша милость, как, сам того не чая, я расположил к себе учителя, — то, когда следовало сказать «распятого же за ны при Понтийстем Пилате», я вспомнил, что не должен больше поминать имени Пилата, и сказал: «Распятого же за ны при Понтийстем Агирре». Простодушие мое и мой страх так рассмешили учителя, что он меня обнял и выдал мне бумагу, где обязался простить мне две ближайшие порки, буде мне случится их заслужить. Этим я остался весьма доволен.
Наступили — дабы не наскучить вам рассказом — карнавальные дни, и учитель, заботясь об увеселении своих воспитанников, велел нам выбрать петушиного короля. Жребий был брошен между двенадцатью учениками, коих назначил учитель, и выпал он на мою долю. Я попросил родителей раздобыть мне праздничный наряд. Наступил день торжества, и я появился на улице, восседая верхом на тощей и унылой кляче, которая не столько от благовоспитанности, сколько от слабости все время припадала на ноги в реверансах. Круп у нее облез, как у обезьяны, хвоста не было вовсе, шея казалась длиннее, чем у верблюда, на морде красовался только один глаз, да и тот с бельмом. Что касается возраста, то ей ничего другого не оставалось, как сомкнуть навсегда свои вежды, — смахивала она более всего на смерть в конском обличье; вид ее красноречиво говорил о воздержании и свидетельствовал о постах и всяческом умерщвлении плоти; не оставалось сомнения, что она давно раззнакомилась с ячменем и соломой; но то, что казалось в ней особливо смехотворным, было множество проплешин, испещрявших ее шкуру; если бы только к ней приделать замок, она бы выглядела точь-в-точь как оживший сундук. И вот, качаясь из стороны в сторону, как чучело фарисея во время процессии, и сопровождаемый другими разряженными ребятами (я один красовался на коне, между тем как прочие следовали пешком), добрался я — при одном воспоминании об этом меня охватывает страх — до базарной площади и, приблизившись к лоткам зеленщиц (упаси нас от них всевышний!), увидел, что лошадь моя схватила с одного из них кочан капусты и в мгновение ока отправила его себе в утробу, куда тот сразу же и покатился по ее длинному пищеводу. Торговка — а все они народ бесстыжий — подняла крик. Сбежались другие зеленщицы, а вместе с ними всякий сброд, и принялись забрасывать бедного петушиного короля валявшейся на земле огромной морковью, брюквой, баклажанами и прочими овощами. Видя, что началась настоящая битва при Лепанто, которую никак нельзя было вести верхом на коне, я решил спешиться, но скотине моей в это время так дали по морде, что, взвившись на дыбы, она повалилась вместе со мною — стыдно сказать! прямо на кучу дерьма. Можете себе представить, что тут сталось! Товарищи мои, однако, успели запастись камнями и, начав запускать ими в зеленщиц, ранили двух из них в голову. Я же после своего падения в нужник стал самой что ни на есть нужной персоной в этой драке. Явились слуги правосудия и забрали зеленщиц и мальчишек, прежде всего тех, у кого нашлось оружие, ибо кое-кто повытаскивал висевшие у пояса для пущей важности кинжалы, а кое-кто — и маленькие шпаги. Все это, разумеется, отобрали. Дошла очередь и до меня. Увидав, что при мне нет никакого оружия, ибо я успел спрятать его в соседнем доме, один из стражников спросил, нет ли у меня чего-либо опасного, на что я ответил, что нет ничего, кроме того, что может быть опасно для их носов. Должен признаться, ваша милость, что, когда в меня стали бросать баклажанами и брюквой, я решил, что по перьям на шляпе меня приняли за мою матушку, которую так же в свое время забрасывали овощами. Вот почему по своей ребячьей глупости я и взмолился:
— Тетеньки, хоть на мне и перья, но я не Альдонса де Сан Педро, моя мамаша!
Как будто бы они не видели этого по моему обличью и по моей роже! Страх и внезапность несчастья оправдывают, впрочем, мою растерянность. Что же касается до альгуасила, то он возымел намерение отправить меня в тюрьму, но не сумел этого осуществить, так как меня нельзя было удержать в руках, настолько я был вымазан всякой гнусью. В конце концов одни отправились в одну сторону, другие в другую, а я добрался до дому, измучив все встречавшиеся мне по пути носы. Дома я рассказал обо всем случившемся своим родителям, и они пришли в такую ярость, что решили меня наказать. Я взвалил всю вину на того несуразного коня, что они сами мне дали, пробовал всячески их ублажить, но, видя, что из всего этого ничего не выходит, удрал из дому и отправился к моему другу дону Дьего. Его я нашел с пробитою головою, а его родителей — исполненных решимости не отпускать больше своего сына в школу. Там я узнал также, что мой конь, очутившись в затруднительном положении, пробовал было разок-другой дрыгнуть ногами, но свернул себе хребет и при последнем издыхании остался лежать на куче навоза.
Видя, что праздник наш пошел кувырком, весь город взбудоражен, родители мои обозлены, друг мой — с пробитой головой, а лошадь издохла, решил я не возвращаться ни в школу, ни в отчий дом, а остаться в услужении у дона Дьего, или, вернее сказать, составить ему компанию, что и было осуществлено, к великому удовольствию его родителей, любовавшихся на нашу детскую дружбу. Я отписал домой, что мне нет больше нужды ходить в школу, ибо, хотя я и не научился хорошо писать, но для моего намерения стать кабальеро требуется именно умение писать плохо, что с этого же дня я отрекаюсь от ученья, дабы не вводить их в лишний расход, и от их дома, дабы избавить их наперед от всяческих огорчений. Сообщил им я также, где и в качестве кого я нахожусь и что не явлюсь к ним впредь до их волеизъявления.
Глава III
о том, как я отправился в пансион в качестве слуги дона Дьего Коронеля
В ту пору дон Алонсо надумал определить своего сына в пансион, отчасти — чтобы отдалить его от праздной жизни, отчасти — чтобы свалить с себя всяческие заботы. Разузнал он, что в Сеговии проживает некий лисенсиат Кабра, занимающийся воспитанием дворянских детей, и направил к нему своего сынка вместе со мною в качестве провожатого и слуги. В первое же воскресенье после поста мы оказались во власти воплощенного голода, ибо нельзя было назвать иначе представшие перед нами живые мощи. Это был похожий на стеклодувную трубку ученый муж, щедрый только в своем росте, с маленькой головкой и рыжими волосами. Глаза его были вдавлены чуть не до затылка, так что смотрел он на вас как будто из бочки; столь глубоко упрятаны и так темны были они, что годились быть лавками в торговых рядах. Нос его навевал воспоминания отчасти о Риме, отчасти о Франции, был он весь изъеден нарывами — скорее от простуды, нежели от пороков, ибо последние требуют затрат.
Щеки его были украшены бородою, выцветшей от страха перед находившимся по соседству ртом, который, казалось, грозился ее съесть от великого голода. Не знаю, сколько зубов у него не хватало, но думаю, что они были изгнаны из его рта за безделье и тунеядство. Шея. у него была длинная, как у страуса, кадык выдавался так, точно готов был броситься на еду, руки его болтались как плети, а пальцы походили на корявые виноградные лозы. Если смотреть на него от пояса книзу, он казался вилкой или циркулем на двух длинных и тонких ножках. Походка его была очень медлительной, а если он начинал спешить, то кости его стучали подобно трещоткам, что бывают у прокаженных, просящих милостыню на больницу святого Лазаря. Говорил он умирающим голосом, бороду носил длинную, так как по скупости никогда ее не подстригал, заявляя, однако, что ему внушают такое отвращение руки цирюльника, прикасающиеся к его лицу, что он готов скорее дать себя зарезать, нежели побрить. Волоса ему подстригал один из услужливых мальчишек. В солнечные дни он носил на голове какой-то колпак, точно изгрызенный крысами и весь в жирных пятнах. Сутана его являла собою нечто изумительное, ибо неизвестно было, какого она цвета. Одни, не видя в ней ни шерстинки, принимали ее за лягушечью кожу, другие говорили, что это не сутана, а обман зрения; вблизи она казалась черной, а издали вроде как бы синей; носил он ее без пояса. Не было у него ни воротничка, ни манжет. С длинными волосами, в рваной короткой сутане, он был похож на прислужника в похоронной процессии. Каждый из его башмаков мог служить могилой для филистимлянина. Что сказать про обиталище его? В нем не было даже пауков; он заговаривал мышей, боясь, что они сгрызут хранившиеся про запас куски черствого хлеба; постель у него была на полу, и спал он всегда на самом краешке, чтобы не снашивать простыней. Одним словом, он являлся олицетворением сугубой скаредности и сверхнищенства.