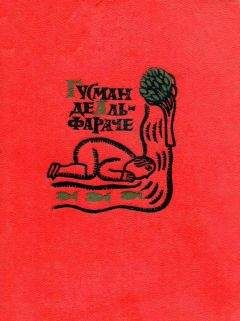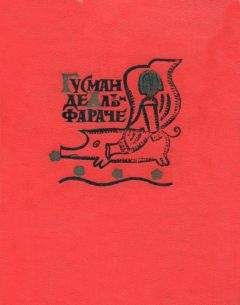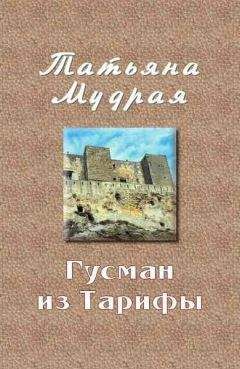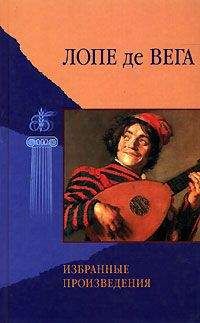Испанская жизнь отразилась в Гусмане, как в вогнутом зеркале, он дух этой жизни и ее образ. Национально окрашено его тщеславие[5], сознание своего благородства, даруемого только кровью (I—I, 1), его наглость и высокомерие. Отождествление Гусмана с Испанией обнаружено в словах французского посла: «Этот солдат, Гусманильо, похож на тебя и на твою Испанию, которая все берет силой и дерзостью» (I—III, 10).
История пикаро, избалованного с детства, ни к какому делу не приученного, скитающегося по белу свету в погоне за удачей, как бы становится некоей многозначительной притчей. Собственная бродячая жизнь напоминает Гусману беспечно управляемые государства, в которых голова у ног ума просит (I—I, 3). У нищих бродяг те же привилегии, что у испанских королей, и тот же девиз: «Plus Ultra» — «все дальше» (II—II, 5); читатель Алемана помнил, что это официальный девиз испанских Габсбургов, девиз их военной и дипломатической экспансии для создания мировой католической державы.
«Уклоняясь» то и дело от рассказа о своей жизни, подхватывая случайные «шары», какие попадаются в ходе рассказа, чтобы перескочить на общие рассуждения об Испании, «любезной своей родине, неподкупном страже веры», Гусман все время строго держится темы. Пикаро — Испания в миниатюре, поэтому ничтожная история плутней как бы становится иносказанием о стране, ее портретом. Благодаря редукции жизнь человеческая сведена к биографии мошенника, но эта биография служит лишь поводом для размышлений о состоянии общества. Вместо беспристрастного бытописательного романа, которого ожидает современный читатель, получается страстная политическая сатира. Важно ли заниматься одним Гусманом? Надо ли его разоблачать? «Все крали — и сам я таскал». «Люди за хлеб — так и я не слеп». «Глядя на эти бесчинства, я сам стал таким, как все» (I—II, 5, 6). Пикаро не хуже других, только закон не на его стороне. Его провины — часто сущий пустяк, но все дело в том, что «булла с привилегией на воровство даруется лишь мастерам цеха богатых и сильных» (I—II, 6). И вообще, стоит ли останавливаться на злоупотреблениях отдельных лиц, на «вещах всем известных»? (I—I, 3). Ведь вся беда в общей болезни социального организма: «Тело поражено не одной, а многими язвами» (I—II, 4). Всюду, сверху донизу, беззаконие, надувательство, подлоги, злоупотребления — как не прийти в отчаяние! Все крадут, все обманывают, все идет наоборот (I—II, 4), «куда ни глянь — дело дрянь» (I—II, 9).
Алеман, как и многие лучшие люди его века, в отчаянии от всеобщей коррупции, перед которой он чувствует себя бессильным. Но и это бессилие национального сознания перед национальным злом также отражается в образе Гусмана — в бессилии плута перед собственными пороками: как правило, нравственные мысли, намерения впредь исправиться осеняют его накануне очередной крупной аферы. Автору с его прекраснодушными проектами спасительных законов под стать пикаро-политиканы, прожектеры, и главный среди них сам Гусман, у которого среди прочих предложений есть и разумный проект более эффективных наказаний за воровство…
Парадоксально то, что голос сатирика так часто сливается с голосом мошенника и детище порока выступает в роли наставника нравственности! Но тут обнаруживается и другая сторона испанского пикаро. В культе праздности и даже в бесстыдстве («во всех невзгодах оставался при мне главный мой капитал — бесстыдство»; I—II, 7) сказывается у пикаро жажда раскрепощения. Автор останавливается в недоумении перед авантюрностью своего героя, которая с детства толкает его на преступления, и готов ее объяснить неблагоразумием молодости («страшный это зверь — двадцать лет!») или греховной человеческой природой. Однако это «молодость» не только биологическая, но и историческая. Алеман ближе к истине, когда объясняет силу порока в своем герое «жаждой свободы от оков земных и небесных» (II—I, 1). С наибольшим удовольствием вспоминает Гусман о «блаженных невозвратных временах» нищенства в Риме, когда он был сам себе хозяин, когда не надо было никому угождать и домогаться чужих милостей (I—III, 5). В следующем эпизоде его берут на службу к кардиналу, казалось бы, повышают в ранге, но это возвышение он воспринимает как унижение — его «низвели до положения слуги». Правда, Гусмана там ласкают, живется ему весело, но для него это «веселье у позорного столба, с рогаткой на шее». Ничто его не радует, день и ночь он думает о прежней привольной жизни пикаро.
В алемановском плуте отразился не только процесс морального упадка, но и — на свой лад — рост сознания личного достоинства, связанный с возникновением нового общества. Хозяевам Гусман служит из одной нужды и, в отличие от Ласарильо (или Санчо Пансы), лишен патриархальной привязанности к своим кормильцам. Часто его плутни — например, на службе у того же кардинала — форма отстаивания своей независимости перед старшими по сословной лестнице, которых он не уважает и которым жестоко мстит за обиды; «страх — это чувство рабское» и «не такой я человек, чтобы обуздывать себя» (I—III, 8), Герой-бродяга — горестное «разорванное сознание» этого мира, отрицательное начало и вместе с тем синтетический образ испанского общества — должен был поэтому стать и глашатаем его исканий, его «разума».
Почти через два века во Франции о жизненном типе, зафиксированном впервые в Гусмане де Альфараче, напомнит герой трилогии Бомарше[6]. Но в Испании конца XVI века «третье сословие» еще не сложилось как прогрессивная сила нации. «Положительная программа» Гусмана часто не идет дальше безжизненной дидактики в христианском духе, к тому же довольно искусственной в устах мошенника.
V. Образ пикаро и реализм барокко
Мироощущение и эстетика Алемана тесно связаны с эпохой, протекавшей под знаком реакции на культуру Возрождения. «Гусман де Альфараче», опубликованный на шесть лет раньше «Дон-Кихота», уже принадлежит искусству барокко — характер его реализма существенно иной, чем в последнем художественном памятнике Ренессанса.
Творчество художников Возрождения было проникнуто верой в то, что в малом мире человеческой жизни и в «микрокосме» человеческой натуры отражается разум, царящий в жизни «макрокосма», в природе и в обществе, верой в единство естественного и нравственного. Отсюда и представление, что повиноваться естественным влечениям своей природы, развивать свои способности — это и право и долг человека перед обществом, его разумное призвание, его судьба. Из взгляда на человека как творца собственной судьбы исходит в эпоху Возрождения изобразительное искусство, новелла, поэма, комедия, трагедия, роман — вплоть до «Дон-Кихота», где на этой вере героя основана вся коллизия романа. Но уже в искусстве позднего Ренессанса гуманистическое, идеализирующее понимание жизни сталкивается с бесчеловечной природой рождающегося нового общества, которое последние художники Возрождения поэтому и оценивают как недостойное человека, неразумное и неестественное состояние связей между людьми.
Напротив, художники барокко коренным образом пересматривают само понимание человека, само соотношение в жизни и обществе между природой и разумом, между естественным, свободным, стихийным и нравственным, должным, необходимым, а тем самым соотношение между реальным и идеальным в искусстве. Испания, где естественный исторический переход к буржуазному обществу протекал в самой неразумной форме и привел к длительному и, казалось, безысходному национальному упадку, стала ведущей страной всеевропейской реакции против идей предыдущей эпохи. Искусство Испании во второй половине классического века наиболее показательно для барокко и пронизано сознанием переживаемого всеобщего разлада. Это искусство стремится объяснить национальный кризис как закономерное следствие дисгармоничности всего сущего, которая обнаруживается более всего в самом полдне жизни, в буйном цветении ее сил. «Нынче все достигло своего расцвета, а человеческое самолюбие более всего..» Труднее справиться, в наше время с одним человеком, чем в прежние времена с целым народом», — замечает философ испанского барокко Балтасар Грасиан. По отношению к «природе», к естественным влечениям человека или потребностям общества организующий разум может поэтому выступать лишь как узда для натуры, как «возвышенное насилие», усугубляющее несправедливость и страдания, и без того разлитые в жизни, но необходимое для сохранения общества.
Уже похвальное слово к первой части романа раскрывает одну из основных идей «Гусмана де Альфараче»: полемику Алемана с «невежественным учением, гласящим, будто лучшая школа — сама природа», то есть с учением Ренессанса. История юного авантюриста, который, повинуясь своей «природе», своим влечениям, смело покидает отчий кров, чтобы собственными силами отвоевать себе место в жизни по своему вкусу, — это прежде всего сатира на «человека — творца своей судьбы», на героическую «романтику века странствующего рыцарства буржуазии», эпохи мореплавателей, конкистадоров и авантюристов всякого рода. Доспехи испанских конкистадоров к концу века обратились в лохмотья пикаро. В развенчании отжившей и вредной романтики Алеман заходит несравненно дальше Сервантеса. Человек Алемана — существо неразумное, слабое, не творец своей судьбы, а раб своей судьбы, «раб своих страстей» (II—III, 2), дурных страстей. Он переменчив от природы, как неразумная изменчивая материя, вечно стремящаяся к новым формам (I—I, 2).