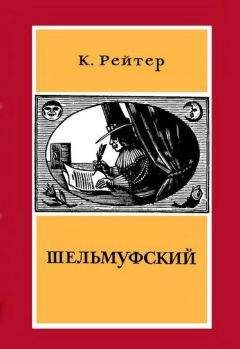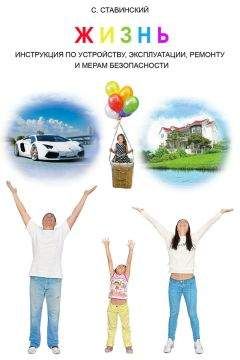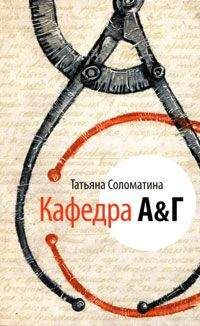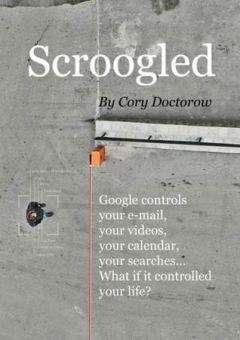После бала мы с моей Шармант поехали в оперу, где тоже можно было, черт возьми, кое-что посмотреть, так как в этот день ставили «Разрушение Иерусалима».[26] Ну и ну! Что это был за огромный город, этот самый Иерусалим, который представляли в опере! Бьюсь об заклад, что он, черт его побери, был в десять раз больше, чем город Гамбург, а его так подло разрушили, что, черт возьми, сейчас и не увидишь, где он находился. Только жалко, что с ним и расчудесному храму Соломонову пришлось вылететь в трубу; мне казалось, что хоть кусочек от него должен был бы уцелеть, так нет же, черт побери, солдаты все развалили и разрушили дотла – это были хорваты и шведы, они-то и стерли Иерусалим в порошок.[27] После оперы я направился со своей Шармант на Юнгфернштиг[28] (как называют его господа гамбуржцы). Ибо это веселое место и расположено оно в центре города на берегу небольшой реки, называемой Эльстер.[29] Здесь растет, пожалуй, тысячи две лип, и благородные кавалеры и дамы города Гамбурга прогуливаются и дышат под липами свежим воздухом каждый вечер. На Юнгфернштиге можно било встретить по вечерам и меня с моей Шармант, ибо Юнгфернштиг и опера были всегда нашим любимым времяпрепровождением. Об осаде Вены они также однажды сыграли превосходную оперу! Сто тысяч чертей! Какие бомбы швыряли турки в город Вену! Черт возьми, они были в двадцать раз больше тех, что лежат в гамбургском укреплении. Но как им за это отплатили саксонцы и поляки,[30] вы, наверное, знаете. Пожалуй, свыше 30 тысяч турок полегло у стен Вены, не считая пленных и смертельно раненных, число которых, по моим подсчетам, достигало приблизительно 18–20 тысяч человек, а добрых 40 тысяч обратились в бегство. Ох, будь я проклят! Как заливались трубы, когда кончилась осада города, готов спорить, что, вероятно, свыше 20 тысяч трубачей стояли на площади и играли в городе викторию.[31]
В таких забавах ежедневно проводили мы время в Гамбурге, и сколько это мне стоило денег, об этом, черт меня побери, я и говорить не хочу! Но мне не жалко ни гроша, которые мы промотали с Шармант, ибо она была необыкновенно красивой бабенкой, и ради нее я готов был бы снять штаны и заложить их ростовщику, если бы не хватило денег, так как она любила меня сверх всякой меры и всегда называла своим «прелестным юношей» – ведь я был тогда гораздо красивей, чем теперь. А почему? Вы услышите ниже, как гнусно сожгло меня солнце за экватором. Да, Гамбург, Гамбург! – как вспомню о нем – немало радости он мне доставил… И я бы, черт возьми, так скоро оттуда не убрался (хотя и пробыл там целых три года), если бы моя кривая сабля не довела меня до беды; правда, все произошло из-за моей ненаглядной Шармант, но эта добрая бабенка тоже, собственно, не виновата в том, что я вынужден был уносить ноги туманной ночью. Ибо благородный молодой человек не должен терпеть, чтобы над ним кто-то взял верх. Дело обстояло так: меня с моей Шармант пригласили в одно веселое общество, и мы должны были остаться в этом изысканном доме в гостях весь вечер. Было уже очень поздно, когда закончился ужин, и нам предложили заночевать, но моя Шармант не пожелала этого. Благородный хозяин, у которого мы находились, велел запрячь карету с тем, чтобы доставить нас в безопасности домой. Когда мы вскоре доехали до Конного рынка, моя Шармант попросила, чтобы мы прокатились еще с полчасика по Юнгфернштиг – ей хотелось только взглянуть, что за общество там сейчас находится. Я согласился и приказал кучеру везти нас туда. Недалеко от Юнгфернштиг, в одном узком проулке, который мы должны были проехать, кто-то начал меня задирать. Кровь сразу же бросилась мне в голову, словно прямым ударом свалили меня с ног; и, разрази меня господь, в десять раз было бы приятней получить такой удар, чем слышать подобные издевательства! Я остановился и сказал моей Шармант, чтобы она с кучером повернула назад и возвращалась домой, а я выясню, кого же так оскорбляют. Мне казалось невероятным, чтобы так нагло могли задирать самого храброго любимца Фортуны. Но моя Шармант не хотела меня отпускать, опасаясь, что со мной может случиться несчастье; она бросилась мне на шею, начала меня ласкать и вновь всунула свой язык в мое рыло – настолько она меня любила и так хотела, чтобы я остался с ней. Но едва она отвернулась, как я выскочил из кареты, приказал кучеру поворачивать обратно и пошел по направлению к ночным забиякам, которых числом около тридцати застал в конце узкого проулочка. «Чего вы здесь задираете людей, лодыри?» – спросил я их. Но парни с обнаженными шпагами бросились на меня, думая, что я струшу. Я, правда, отступил на шаг, но выхватил из ножен свою саблю и – проклятие! – как пошел колотить и полосовать парней, словно, черт возьми, рубил капусту и репу: пятнадцать из них тотчас же полегли на месте, некоторые, сильно изувеченные, запросили пощады, а третьи стали улепетывать и звать стражу на помощь. Сто тысяч чертей! Когда я услышал о страже, то подумал, что дело обернется плохо, если она меня схватит, и во весь опор помчался к Альтонским воротам, сунул сторожу целый двойной талер,[32] чтобы он меня пропустил в боковую калиточку. За стенами я сел на том самом лугу, где я ударом «ложной квинты» проткнул голландскому бюргеру левый локоть, и заревел, как сопляк. Выплакавшись, я встал, взглянул еще раз на город Гамбург, хотя и не мог его разглядеть в темноте, и проговорил: «Спокойной ночи, Гамбург! Спокойной ночи, Юнгфернштиг, спокойной ночи, опера, спокойной ночи, брат мой господин граф, и спокойной ночи, моя милейшая Шармант! Не убивайся о том, что твой прелестный юноша должен тебя покинуть, быть может тебе скоро удастся его встретить где-нибудь в другом месте». Затем я в темноте отправился в дальний путь. Рано утром я достиг города Альтоны, который находился в трех добрых немецких милях от Гамбурга,[33] завернул в самую благородную харчевню под названием «Виноградник», где встретил земляка, сидевшего в нише за кафельной печью и напропалую дувшегося по-шулерски в карты с двумя благородными дамами. Я открылся ему и рассказал, что произошло со мной в Гамбурге. Это был, черт возьми, тоже парень молодчина, ибо он несколько дней назад вернулся из Франции и ждал в «Винограднике» векселя, который должна была ему прислать при первом удобном случае его мамаша. Он высказал мне такое большое почтение, что я, черт возьми, во веки веков его не забуду, а также посоветовал долго не задерживаться в Альтоне, ибо, если узнают в Гамбурге, что здесь находится некто, погубивший столько душ, то стража, даже если я буду в другой области, начнет розыски и прикажет меня схватить. Этому доброму совету я и последовал, и так как в этот день отсюда отправлялся корабль в Швецию, сел на него, попрощался с земляком и отбыл из Альтоны. Как я чувствовал себя в море, что я и там и в Швеции повидал и испытал, об этом вы узнаете в следующее с большим искусством рассказанной главе.
Была как раз «чесночная среда»[34] на неделе перед Троицей, когда я впервые оказался в море. Я полагал, что корабли, на которых обычно катаются в Гамбурге вдоль Юнгфернштиг, считаются большими, однако возле Альтоны, на море, они наверно, черт возьми, в тысячу раз больше, и их называют грузовыми судами. На одно из таких судов я и сел и, простившись с земляком, отплыл. Чуть ли не через полчаса плаванья мне стало плохо, и я заболел морской болезнью. О проклятье! Как меня начало рвать, казалось, черт возьми, что вывалятся все мои потроха, и я беспрерывно перегибался три дня и три ночи за борт судна. Все удивлялись, откуда все это берется. На четвертый день, когда мне стало немного легче, я попросил у капитана добрый стакан водки, примерно на 12 мер, залпом выпил его и надеялся, что это мне вылечит желудок. Тьфу, проклятье! Едва я эту штуку выпил, как мне опять стало плохо, и если до этого меня уже не рвало, то теперь меня стало рвать водкой на протяжении четырех дней, а на пятый, черт побери, из меня потекло чистое козье молоко, которое я поглощал в детстве до двенадцати лет и которое так долго оставалось где-то в моем брюхе. Когда и оно из меня вышло и даже на рвоту уже не хватало, капитан велел мне выпить добрый стакан оливкового масла, чтобы размягчить желудок, что я и сделал, опрокинув в себя, черт меня подери, свыше пятнадцати жбанов этого масла разом.
Едва только я влил эту штуку в живот, мне сразу же стало легче. На тринадцатый день плавания, около десяти часов утра, так адски стемнело, что не видно было ни зги, и капитану пришлось повесить огромную лампу перед кораблем, чтобы видеть, куда он плывет; своему компасу он не доверял – его стрелку все время заедало. Когда наступил вечер, – проклятье! – какой шторм поднялся на море! Черт меня побери, мы думали, что все мы подохнем. Я могу определенно сказать, что нас качало, как малое дитя в люльке, и капитан охотно бросил бы якорь, но не находил дна и должен был, таким образом, лишь следить, как бы наш корабль не наскочил на риф. На девятнадцатый день небо начало вновь проясняться, и буря так быстро улеглась, что на двадцатый день море опять успокоилось и установилась хорошая погода, лучше, чем мы могли надеяться. Морская вода после этого шторма стала такой чистой, что в ней, черт возьми, можно было видеть снующих туда и сюда рыб! Ну и дела! Какие там были колюшки! Каждая из них была, черт возьми, величиной с лосося или щуку в наших реках; язык свисал у них из их рыл, как у крупных польских быков. Среди прочих рыб можно было видеть и таких, у которых были отвратительные огромные красные глаза, и, побьюсь об заклад, один глаз такой рыбы был больше днища бочек, в которых у нас варят густое пиво. Я спросил капитана, что это за рыбы, он ответил, что они называются «большеглазки». К исходу этого месяца мы почуяли землю, а в следующем месяце уже увидели вершины прекрасных башен Стокгольма, куда мы и направлялись. Примерно с милю от города мы плыли очень медленно вдоль берегов. Сто тысяч чертей! Что за прекрасные луга вокруг Стокгольма! Как раз в это время косили сено, и трава доходила косцам по плечи, так что приятно было глядеть на это. На одном лугу было сметано, наверно, свыше 6 тысяч стогов сена. Когда мы подъехали к самому городу, капитан остановил судно, попросил с нас плату за проезд и велел сойти на берег, что мы и сделали. Высадившись, мы разошлись в разные стороны, и я тоже пошел в город. И так как мне не хотелось поселяться в простой гостинице, то я остался в пригороде и остановился у одного садовода, который, черт меня побери, был чрезвычайно добрым человеком. Стоило мне только заявиться у него и спросить о квартире, как он сразу же согласился. Затем я мигом рассказал ему о моем рождении и об истории с крысой. Ей-ей, клянусь! Как развеселился он, слушая про эти дела! И, черт возьми, он был так почтителен со мной, что, разговаривая, постоянно держал свою шапчонку под мышкой и называл меня только «Ваша милость!» Он, как видно, заметил, что я парень не промах и во мне есть что-то значительное.