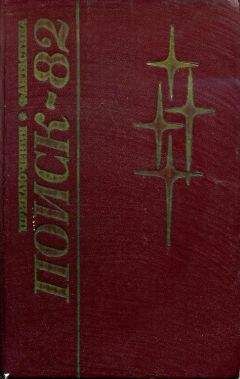135. Рыбаков, 1993. С. 142, 298, 313. Б.А. Рыбаков ссылается на текстологические аргументы А.А. Шахматова, однако значительно упрощает его выводы.
136. Котляр, 1986.
137. Там же. С. 3-15.
138. Там же. С. 12-13, 18.
139. Тихомиров, 1979. С. 46-66.
140. Насонов, 1959. С. 416-462; Насонов, 1969. С. 23-31.
141. Черепнин, 1948. С. 330-333.
142. Ерёмин, 1987. С. 88.
143. Там же. С. 51, 54, 56, 88; Ерёмин, 1946. С. 3-20.
144. Алешковский, 1976. С. 133-162; Алешковский, 1971. С. 53-71.
145. Кузьмин, 1977. С. 296-389.
146. Лихачёв, 1996/2. С. 276-285.
147. Лихачёв, 1986/2. С. 113-136.
148. Лихачёв, 1947. С. 132-143.
149. «Нет нужды стремиться исчерпать все формы устной исторической памятью народа. Необходимо подчеркнуть, однако, что летопись пользовалась устной народной исторической памятью не только как историческим источником. «Повесть временных лет» во многом черпала отсюда же свои идеи, самое освещение прошлого русской земли» (Лихачёв, 1996/2. С. 281).
150. Мельникова, 1999. С. 153; Рождественская, 1998. С. 153-155; Рождественская, 2001. С. 333-339.
151. Мельникова, 1999. С. 153-165.
152. Гринёв, 1989. С. 31-43; Мельникова, Петрухин, 1995. С. 44-57; Мельникова, 2003/2. С. 55-59.
153. Шахматов, 2003/3. С. 380-412; Творогов, 1976. С. 3-26.
154. Характерно, что аналогичные споры идут и среди ученых, исследующих другие письменные традиции — например, западнославянскую. См. Banaszkiewicz, 1998. S. 6,9-10.
155. Петрухин, 2000. С. 38. Ср. другую оценку этого же автора: «Киевская легенда о трех братьях — основателях города имеет книжный характер: имена братьев "выводятся" русскими книжниками из наименований киевских урочищ» (Петрухин, 2003/2. С. 209). Исторически достоверным В.Я. Петрухин признает отвергнутый летописцем вариант сказания о Кие-перевозчике. См.: Петрухин, 2004/2. С. 14-15. Задолго до В.Я. Петрухина точно такое же мнение высказано в монографии: Франклин, Шеппард, 2000. С. 142-144.
156. Мельникова, 2002/1. С. 9-16.
157. Пауткин, 2002. Ср.: Дёмин, 1998.
158. Хабургаев, 1994. С. 115-165; Гиппиус, 2001. С. 147-181; Лурье, 1997/1. С. 56-99.
159. Лурье, 1997/1. С. 56-66.
160. Комарович, 1960. С. 84-104.
161. Там же. С. 92.
162. Там же. С. 94-95.
163. Толочко, 1992/1. С. 13-22.
164. См. подробнее: Толочко, 1990. С. 133-136.
165. Ср.: Александров, Мельников, Алексеев, 1985. С. 13-25.
166. Толочко, 1994. С. 210-215.
167. Мельникова, 1995/2. С. 39-44; Глазырина, 2001. С. 41-47. Подробнее об исторических и генеалогических проблемах, связанных с интерпретацией сказаний о Рюрике и его родственниках, см.: Пчёлов, 2001. С. 43-148.
168. Щавелёв, 2003. С. 269-275.
169. Мельникова, 2005. С. 95-108; Чекова, 2003. С. 85-92; Чекова, 1995. С. 12-28; Фомичева, 2005. С. 74-118; Garsia de la Puente, 2005. С. 119-129; Литвина, Успенский, 2006/2. С. 48-52.
170. Литвина, Успенский, 2006/1. С. 335-354.
171. Гиппиус, 2002. С. 16-42.
172. Топоров, 1997. С. 38-94; Топоров, 1998; Топоров, 1973. С. 106-150; Иванов, Топоров, 1963. С. 88-158; Иванов, Топоров, 2000. С. 413-440.
173. Алексеев, 2005; Алексеев, 2006/1. С. 97-105; Алексеев, 2006/2.
174. Ковалёв, 2005. С. 90-94. Ср. спорное и несколько фантастичное исследование: Назин, 2003.
175. Алпатов СЛ., 2005. С. 96-106; Ратин, 2001. С. 78-93. Ср.: Смирнов, 1974.
2. История изучения устных источников и языческих реминисценций в чешской и польской хронистике
Рассмотрение славянских преданий начиналось в рамках комплексных сравнительно-исторических исследований славянских древностей[176]. Легенды о первых правителях славянских государств использовались Л. Нидерле и П. Шафариком для исторической реконструкции древнейших институтов власти, права, культурных особенностей славян. Были найдены этнографические и фольклорные аналогии сюжетам и деталям рассказов о первых польских и чешских князьях[177]. Эти исследования сформировали исторический подход к изучению языческой истории славянских народов, позволили выявить очевидные параллели в культуре и политическом устройстве восточных, южных и западных славян[178].
Начало критическому исследованию текста Хроники Козьмы Пражского было положено работами И. Добровского[179]. Дальнейшее филологическое и текстологическое изучение Хроники позволило определить письменные источники, использованные Козьмой Пражским, и найти литературные образцы, на которые он ориентировался. Козьма Пражский включал в свой текст юридические документы (привилегии моравской церкви), привлекал жития (Житие св. Вацлава), Хронику Региона, списки епископов Пражской церкви, древние пражские анналы[180]. Отдельно в историографии рассматривались и цитаты из античных авторов, использованные Козьмой Пражским[181].
В результате изучения начального раздела Хроники Козьмы, повествующего о языческом периоде, сложились два противоположных взгляда на историческую достоверность приведенных в нем сведений, а также на вопрос об устном или книжном характере повествования о происхождении чешского государства.
В ряде работ появились сугубо скептические оценки возможности найти «историческое зерно» и реконструировать мифоэпическую традицию, на которых основывался первый чешский хронист. Отрицательно оценивали историческую достоверность начальной части Хроники Козьмы Пражского А. Дюммлер, И. Лозерт и А. Брюкнер[182]. В их работах выявлены цитаты из библейских текстов и античных авторов, заимствования из немецких хроник, на основе чего сделан вывод о книжном характере описания древнейшей истории славян в Хронике: история происхождения династии Пржемысловичей якобы моделировалась по образцу античных рассказов о «золотом веке», а образы первых правителей восходили к Библии. Соответственно «книжные конструкты» признавались исторически недостоверными. Следует отметить, что труды этих исследователей все же сыграли положительную роль в становлении исторической и филологической критики текстов хроник, обозначили необходимость отхода от их прямолинейного исторического толкования и подтолкнули к поиску новых методов реконструкции древнего славянского предания, сохранившегося в составе ранней чешской историографии.
Первая систематическая попытка реконструировать предания, которые легли в основу Хроники Козьмы Пражского, была предпринята B. Новотным[183]. Он рассматривал Хронику и с точки зрения текстологии, и в историческом аспекте. Исследователь подробно проанализировал сюжеты легенд о Кроке, его дочерях, о Либуше и Пржемысле. Новотный привел фольклорные аналогии этим сюжетам и этнографические параллели описанным Козьмой обрядам. Однако в его исследовании преобладает интерес к выявлению исторически достоверных деталей, реконструкции событий, которые легли в основу предания.
Аналогичный подход, но с более сдержанной оценкой возможности исторического толкования преданий, использован 3. Неедлы[184]. В его исследовании последовательно рассматриваются сюжеты рассказов о становлении власти в Чехии. Неедлы впервые разделяет «племенные» и «дружинные» сказания, отразившиеся в Хронике. Он уделяет большое внимание изучению «мифологии» образов первых правителей и членов их семей и доказательству принадлежности этих персонажей к славянской языческой фольклорной традиции. Работа Неедлы стала этапной, она подвела итоги предшествующих исследований и наметила дальнейшие пути изучения чешских преданий.
Похожим образом складывалась история изучения Хроники Галла Анонима[185]. В польской историографии второй половины XIX и начала XX в. велась дискуссия о подлинности и историчности начальной части Хроники[186]. Некоторые исследователи занимали исключительно скептические позиции по отношению к реконструкции преданий, на которых основывался Галл, и выявлению их исторической основы. Наиболее последовательно аргументировали эту точку зрения А. Брюкнер и Я.Ф. Гейслер[187]. В работах Брюкнера «ученой фикцией» считались все польские князья до Мешко I. Брюкнер в основном рассматривал вопросы историчности сведений о становлении польского государства и точности и достоверности передачи хронистом языческих представлений и обрядов древних славян. А. Гейслер сосредоточил свое внимание на литературной форме и сюжете предания о Пясте, поиске аналогий этому повествованию в христианской литературе и, соответственно, доказательстве вторичности текста Галла по отношению к христианским легендам. Между тем выявленные совпадения принадлежат к числу «бродячих сюжетов», универсальных мотивов, которые были найдены фольклористами в самых разных традициях (мотив «бога-гостя», оппозиция «скупой правитель — гостеприимный бедняк», мотив чудесного умножения пищи). На этих же основаниях христианское (евангельское) происхождение ключевых мотивов сказания о Пясте пытались доказать и современные исследователи[188].
Уже в литературе рубежа XIX-XX вв. скептическая позиция по отношению к тексту начальной части Хроники Галла Анонима подверглась аргументированной критике. В повествовании о Пясте были выявлены специфические славянские мифологические образы и мотивы, а также вполне исторически и этнографически достоверные детали.
Традиция реконструкции исторических реалий в преданиях славян, а затем и в начальных разделах Хроники Галла фактически начинается с работы Т. Войцеховского[189]. Им же подробно рассмотрены и наиболее вероятные этимологии имени Пяст — от «пясть» (кисть, кулак) или «пестовать» (кормить, воспитывать). Исследователь склонялся к последней версии и на ее основе реконструировал «династический переворот», переход власти от династии Попеля к «майордому», воспитателю Пясту (аналогичный перевороту, происшедшему в королевстве Меровингов). Легенды о начале польского государства, сохраненные в пересказах различных средневековых историографических памятников, использовал О. Бальцер в фундаментальном исследовании генеалогии династии Пястов[190]. Он же положил начало изучению рассказов о генезисе польского государства как династических легенд.