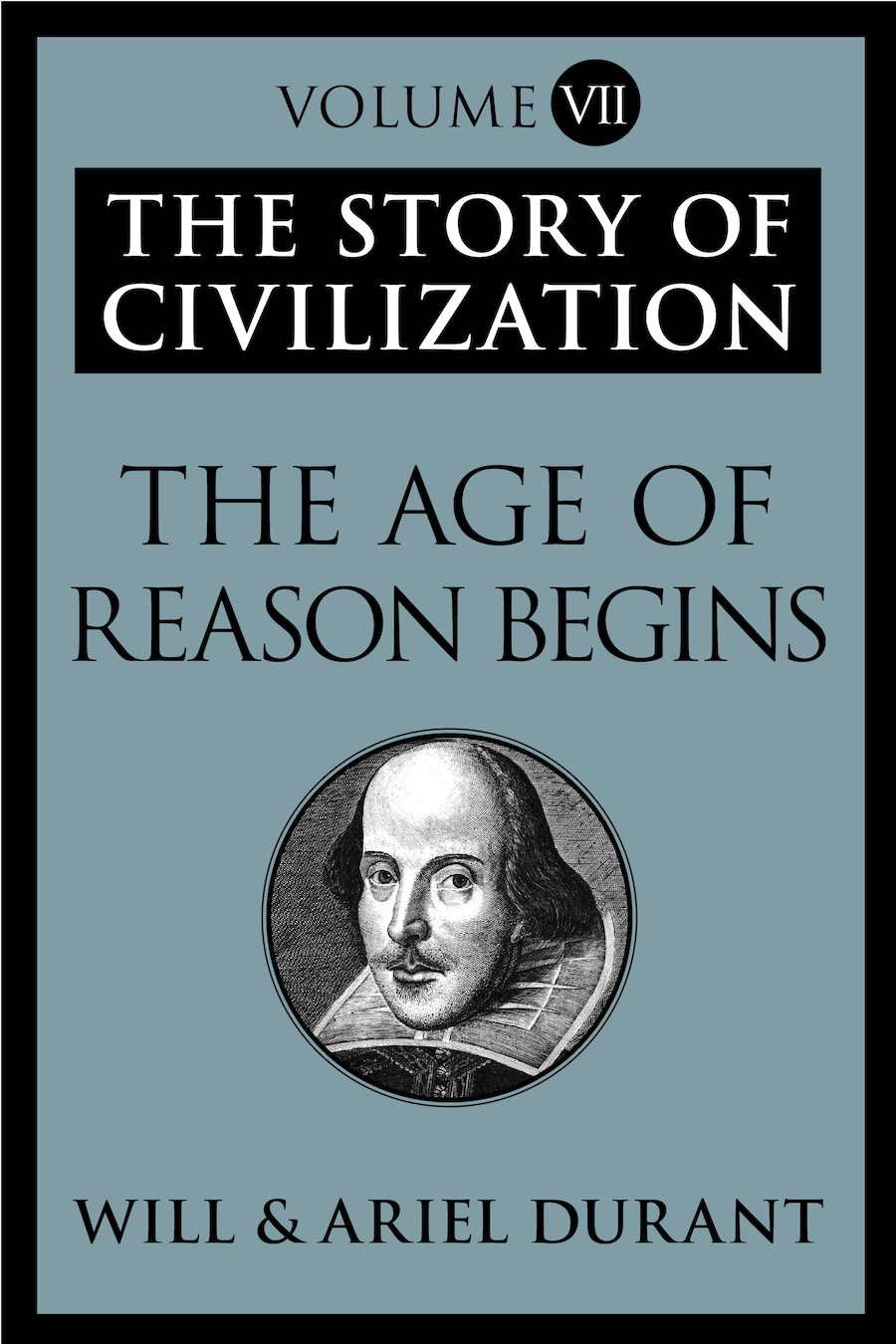фигуры - хотя иногда он признавал их божественными оригиналами искусства. "Прелестные девушки, которых мы видим на улицах Нима, - говорил он, - радуют наши глаза и души не меньше, чем прекрасные колонны Дома Карре, ведь это всего лишь их старые копии".146 Не был он в своей тарелке и в библейских сюжетах. Некоторые из них ему удавались - "Филистимлянин, поверженный у ворот", "Иерихонские слепцы"; а как прекрасны, но величественны женщины в "Елиезере и Ребекке"! Его сильной стороной была классическая мифология, изображенная среди классических руин на фоне классического спокойного пейзажа. Он черпал не из живых моделей, а из воображения, пропитанного любовью и иллюзиями античности, в которой все мужчины были сильными, а все женщины - прекрасными. Посмотрите, как совершенна единственная женская фигура в "Пастухах Аркадии", которую Пуссен по заказу Кольбера написал для Людовика XIV. И обратите внимание на надпись на могиле пастуха: Et ego in Arcadia - "Я тоже [когда-то] был в Аркадии"; может быть, Пуссену приснилось, что он тоже жил в Греции вместе с Орфеем и богами?
Похороны Фокиона - самая сильная из мифологических картин Пуссена, но "Орфей и Эвридика" - самая трогательная, возможно, потому, что мы вспоминаем отчаянные строки Глюка. Романтическая душа встревожена тем, что история затерялась в пейзаже. Ведь на самом деле Пуссен любил не мужчину и не женщину, а карающий простор полей, лесов и неба - всю эту всеобъемлющую панораму, в которой перемены неторопливы или посрамлены постоянством, а человеческие беды поглощены перспективами пространства и времени. Поэтому его величайшие картины - это пейзажи, в которых человек - столь же незначительное явление, как в китайской живописи или современной биологии.
Эти пейзажи величественны, но однообразны. Мы вряд ли смогли бы отличить один от другого, если бы Пуссен не добавил несколько опознавательных фигур или небрежное название. Он любил линию, но слишком хорошо; он пренебрегал цветовой гаммой, слишком много играя на коричневом; неудивительно, что более поздние художники восставали против этого "коричневого соуса", стекающего с его деревьев. И все же эти мягко освещенные, мягко окрашенные просторы, столь неудовлетворительные для Рёскина, очарованного бликами Тернера,147 являются облегчением после идеологического брожения живописи в наше время. Здесь классическое представление о красоте как гармонии частей в целом, а не юношеское представление об искусстве как о "самовыражении", которое может быть детским рисунком или криком лоточника. На фоне маньеризма и барокко, в противовес силе и сентиментальности итальянской живописи XVII века, Пуссен придерживался классического идеала - ничего лишнего: ни кричащих красок, ни слез, ни причуд, ни театральных контрастов света и тени. Это мужское искусство, напоминающее скорее Корнеля, чем Расина, и скорее Баха, чем Бетховена.
На автопортрете, который он сделал в 1650 году, его глаза немного устали, возможно, от рисования или чтения при скудном освещении. Он много читал, стремясь в мельчайших подробностях узнать жизнь Древней Греции и Рима; со времен Леонардо художник не был столь эрудирован. В старости он обнаружил, что его глаза слабеют, а рука нестабильна. Смерть жены в возрасте пятидесяти одного года (1664) оборвала живые узы; он пережил ее всего на год. "Апеллес умер", - писал друг. На могиле или рядом с ней в приходской церкви Сан-Лоренцо Шатобриан (1829) воздвиг мраморный памятник, как один смертный бессмертному другому:
F. A. de Chateaubriand
à
Nicolas Poussin
Pour la gloire des arts et l'honneur de la France
Его ближайшим соперником как пейзажиста был его сосед и друг Клод Гелле, названный Лорреном по родной провинции. Его тоже тянуло в Италию, он соглашался на любую должность, пусть даже самую незначительную, лишь бы попасть туда и жить там, где каждый поворот ищущего взгляда открывал какой-нибудь памятник христианского искусства или какой-нибудь вдохновляющий фрагмент античности. В Риме он поступил в ученики к Агостино Тасси, смешивал для него краски, готовил для него, учился у него. Он сделал тысячу пробных рисунков и офортов, которые сегодня ценятся знатоками. Он работал медленно и скрупулезно, иногда по две недели над одной деталью. В конце концов он тоже стал художником, пресыщенным заказами от благодарных кардиналов и королей. Вскоре у него появился собственный дом на Пинцианском холме, и он вместе с Пуссеном стал удовлетворять новый спрос на природные сцены.
Он охотно откликнулся на этот призыв, ведь он так страстно любил землю и небо Рима, что часто вставал до рассвета, чтобы наблюдать за ежедневным творением света, чтобы уловить незаметные изменения света и тени, создаваемые каждым появляющимся дюймом солнца. Свет не был для Клода простым элементом картины; это была его главная тема; и хотя он не стремился, подобно Тернеру, заглянуть в самый лик солнца, он первым изучил и передал распространяющуюся оболочку света. Он постиг неосязаемую игру воздуха на полях, листве, воде, облаках; каждое мгновение небо было новым, и он, казалось, был нацелен на то, чтобы каждый текучий момент сохранился в его искусстве. Он любил трепет парусов на ветру, величие кораблей на море. Он чувствовал притяжение расстояния, логику и магию перспективы, стремление увидеть за пределами видимого бесконечность пространства.
Пейзажи были его единственным интересом. По совету Пуссена он вставлял в свои картины классические сооружения - храмы, руины, пьедесталы, - возможно, чтобы придать достоинство старости проходящей сцене. Он согласился добавить несколько человеческих фигур в панораму природы, но его сердце не лежало к этим уродствам. Фигуры "были брошены просто так"; он "продавал свои пейзажи и раздавал свои фигуры".148 Названия и сюжеты, которые они предлагали, были уступками умам, которые не могли ощутить чудо света и тайну пространства без изящества христианской легенды или какого-то ярлыка классических сказаний. Но в действительности для Клода существовала только одна тема - мир утра, полудня и заката. Он украсил галереи Европы причудливыми вариациями, чьи имена ничего не значат, но чей пантеизм является мистическим браком поэзии и философии.
Мы можем признать, что Рёскин149 что Клод и Пуссен обманчиво показывают природу в ее более мягких настроениях, упуская ее величие и игнорируя ее фурии, несущие разрушительную силу. Но благодаря их творчеству была заложена великая традиция пейзажной живописи. Теперь она все больше и больше конкурировала с фигурами и портретами, с библейскими и мифическими сценами. От Рюисдалей до Коро был открыт путь для шествия природы.
Ришелье и национальное единство, Корнель и Академия, Монтень и Мальерб, де Броссе и Мансар, Пуссен и Лоррен - это был не скудный урожай с земли, охваченной войной. Людовику XIV предстояло встать на этот возвышающийся плацдарм и возглавить