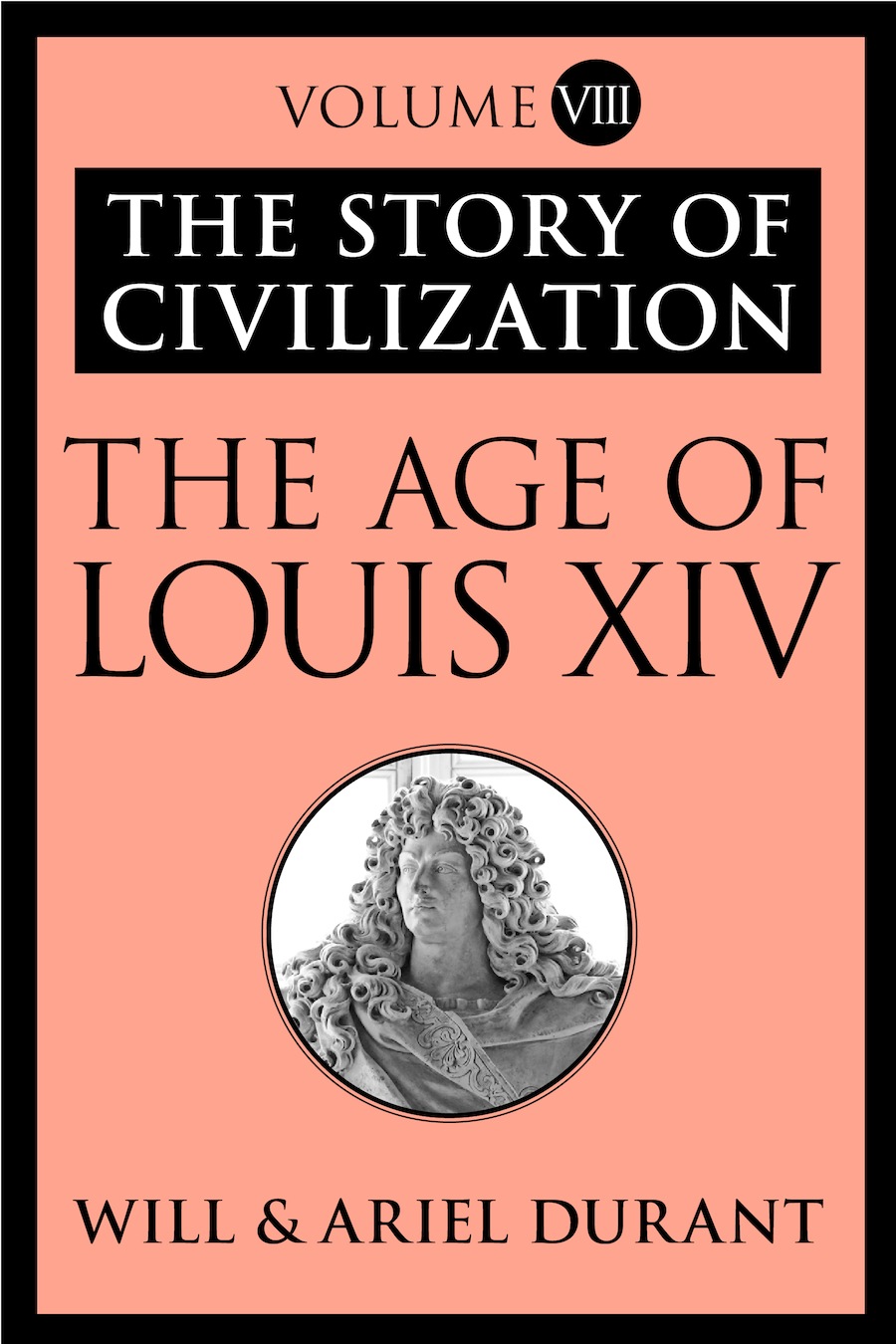по материнской линии, Филиппа III Испанского, чем на своего деда по отцовской линии, Генриха IV Французского.
При рождении (5 сентября 1638 года) его назвали Дьедонне, Богом данный; возможно, французы не могли поверить, что Людовик XIII действительно достиг родительских прав без божественной помощи. Отчуждение между отцом и матерью, ранняя смерть отца и затянувшиеся беспорядки Фронды негативно сказались на развитии мальчика. В борьбе Анны и Мазарина за сохранение власти Луи часто оставался без внимания; порой, в те не королевские дни, он познал бедность в поношенном платье и скудной пище. Казалось, никто не заботился о его образовании, а когда воспитатели брали его под руку, они старались убедить его, что вся Франция - его вотчина, которой он будет править по божественному праву, не неся никакой ответственности, кроме как перед Богом. Его мать нашла время, чтобы обучить его католической доктрине и набожности, которые вернутся к нему с новой силой, когда страсть угаснет, а слава иссякнет. Сен-Симон уверяет, что Людовика "почти не учили читать и писать, и он оставался настолько невежественным, что самые известные исторические и другие факты были ему совершенно неизвестны". 16-Но это, скорее всего, одно из яростных преувеличений герцога. Конечно, Луи не проявлял особого вкуса к книгам, хотя его покровительство писателям и дружба с Мольером, Буало и Расином свидетельствуют об искренней признательности литературе. Позже он сожалел, что так поздно пришел к изучению истории. "Знание великих событий, происходивших в мире на протяжении многих веков и усвоенных твердыми и деятельными умами, - писал он, - послужит укреплению разума во всех важных рассуждениях". 17 Его мать старалась сформировать в нем не только хорошие манеры, но и чувство чести и рыцарства, и многое из этого осталось в нем, запятнанное безрассудной волей к власти. Он был серьезным и покорным юношей, очевидно, слишком хорошим для управления государством, но Мазарин заявил, что в Людовике "есть все, чтобы сделать четырех королей и благородного человека". 18
7 сентября 1651 года Джон Эвелин из парижской квартиры Томаса Гоббса наблюдал за процессией, провожавшей тринадцатилетнего монарха на церемонию, которая должна была ознаменовать окончание его несовершеннолетия. "Юный Аполлон", - описывал его англичанин. Он почти всю дорогу шел со шляпой в руке, приветствуя дам и аплодирующих, которые наполняли окна своей красотой, а воздух - "Vive le Roi!". 19 Людовик мог бы передать всю полноту власти Мазарину, но он уважал обходительную находчивость своего министра и позволил ему держать бразды правления еще девять лет. Тем не менее, когда кардинал умер, он признался: "Я не знаю, что бы я сделал, если бы он прожил еще долго". 20 После смерти Мазарина главы департаментов явились к Людовику и спросили, к кому отныне им следует обращаться за указаниями. Он ответил с решительной простотой: "Ко мне". 21 С этого дня (9 марта 1661 года) по 1 сентября 1715 года он управлял Францией. Народ плакал от радости, что теперь, впервые за полвека, у него есть действующий король.
Они превозносили его внешность. Увидев его в 1660 году, Жан де Лафонтен, человек, которого нелегко было обмануть, воскликнул: "Как вы думаете, много ли в мире королей с такой прекрасной фигурой и внешностью? Я так не думаю, и когда я вижу его, мне кажется, что я вижу саму Великую Марию собственной персоной". 22 Его рост составлял всего пять футов пять дюймов, но из-за власти он казался выше. Хорошо сложенный, крепкий, хороший наездник и танцор, искусный жонглер и увлекательный рассказчик, он обладал именно тем сочетанием, которое способно вскружить голову женщине и открыть ее сердце. Сен-Симон, который недолюбливал его, писал: "Если бы он был просто частным лицом, он бы создал такой же хаос в своих любовных делах". 23 И этот герцог (который никогда не мог простить Людовику, что тот не позволял герцогам править), признал королевскую учтивость, которая теперь стала школой для двора, через двор - для Франции, а через Францию - для Европы:
Никогда человек не дарил с большей милостью, чем Людовик XIV, и не увеличивал таким образом ценность своих благ. . . . От него никогда не ускользали неблаговидные слова; а если ему приходилось порицать, делать выговор или исправлять, что случалось редко, то почти всегда с добром, никогда, за исключением одного случая. ..., с гневом или суровостью. Никогда не было человека, который был бы так естественно вежлив. . . . По отношению к женщинам его вежливость не имела аналогов. Он никогда не проходил мимо самой скромной девушки, не приподняв шляпу, даже перед горничными, которых он знал как таковых. . . . Если он приставал к дамам, то не прикрывался, пока не уходил от них. 24
Его ум был не так хорош, как манеры. Он почти сравнялся с Наполеоном в проницательности суждений о людях, но ему не хватало философского интеллекта Цезаря или гуманной и дальновидной государственной мудрости Августа. "У него не было ничего, кроме здравого смысла, - говорил Сент-Бёв, - но он обладал большим его количеством". 25 и, возможно, это лучше, чем интеллект. Послушайте Сен-Симона: "Он был благоразумен, умерен, сдержан, владел своими движениями и языком". 26 "У него была душа больше, чем ум", - говорит Монтескье, 27 а сила внимания и воли в годы его расцвета компенсировала ограниченность его идей. Мы знаем его недостатки главным образом по второму периоду его правления (1683-1715), когда фанатизм сузил его, а успех и лесть испортили его. Тогда мы увидим его тщеславным, как актер, и гордым, как памятник, хотя часть этой гордости, возможно, была напускной, а часть - обусловлена его представлением о своей должности. Если он "играл роль" Великого Монаха, то, возможно, считал это необходимым для техники правления и поддержания порядка; должен был существовать центр власти, и эта власть должна была быть подкреплена помпой и церемониями. "Мне кажется, - говорил он своему сыну, - что мы должны быть одновременно скромны сами и горды тем местом, которое занимаем". 28 Но он редко достигал смирения - разве что однажды, когда не обиделся на то, что Буало поправил его в вопросах литературного вкуса. В своих мемуарах он с большим спокойствием размышлял о собственных достоинствах. Главной из них, по его мнению, была любовь к славе; он "предпочитал всем вещам, - говорил он, - и самой жизни, возвышенную репутацию". 29 Эта любовь к славе стала его заклятым врагом из-за своей чрезмерности. "Пыл, который мы испытываем к la gloire, - писал он, -