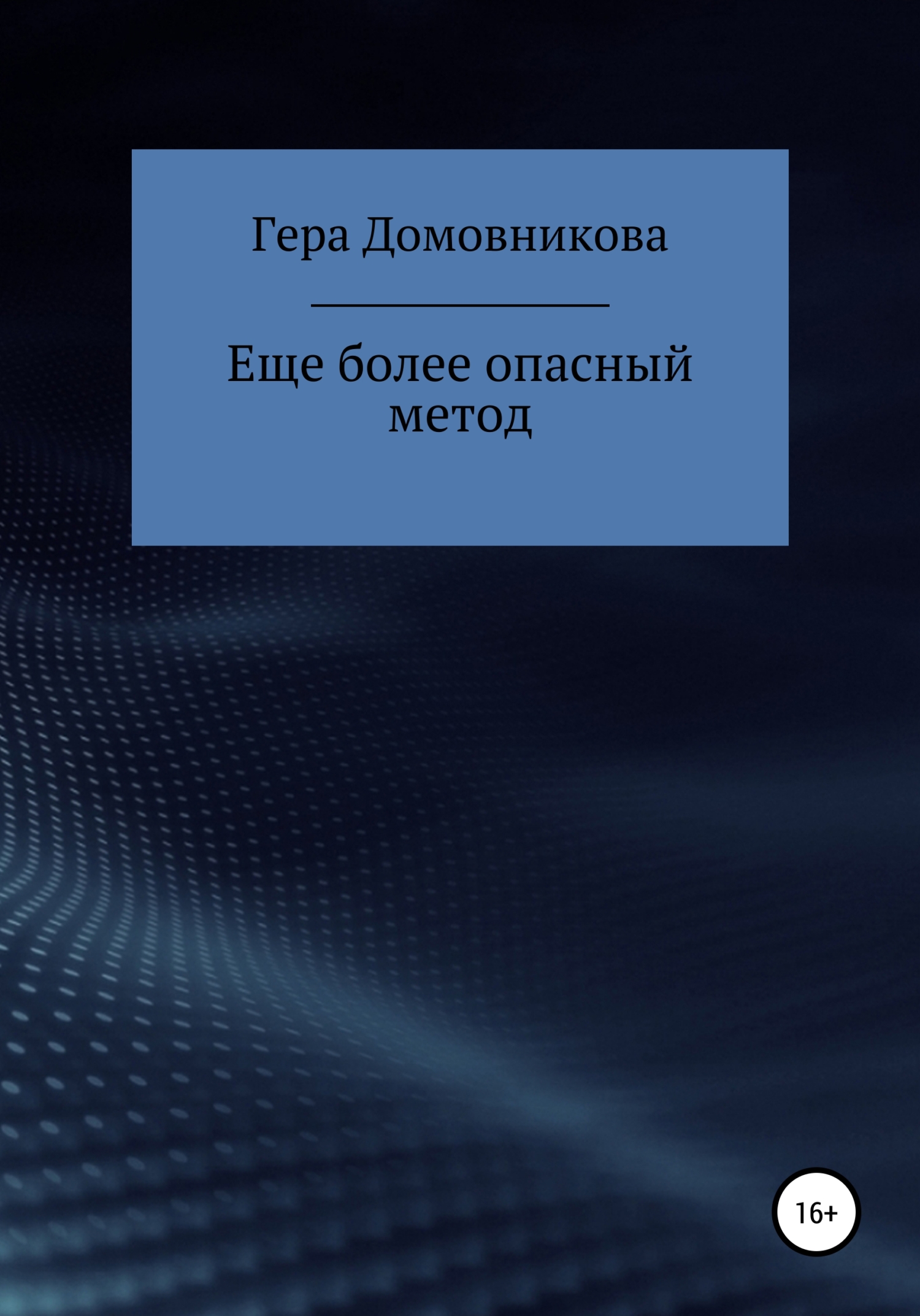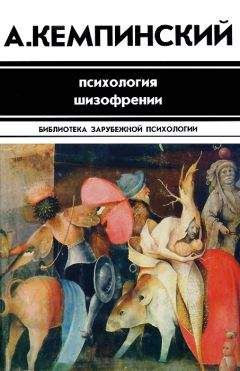утомления. Например, одна дама видит себя в сновидении повешенной на крючке и не решается спрыгнуть на землю. Сомневаясь, она осматривается в поисках помощи. Она говорит себе: «Я неоднократно нуждалась в том, чтобы мне действительно помогли; если бы я только была уверена в том, что при необходимости мне помогут, я отважилась бы на прыжок». У женщины был страх перед жизнью. Она чувствует себя одинокой и считает, что ей необходима помощь
321. После того как сознательное мышление судит о силе, оно все больше позволяет проявляться предсознательному образному мышлению. Я не вижу здесь никакого принципиального различия гипнагогических феноменов. После таких несовершенных сновидений чувствуют себя очень утомленными. Можно было бы сказать, здесь нам не хватает отдыха, который дает нам сновидение в результате его исполняющей желания деятельности, так же как и в страшных сновидениях, напр[имер], где сопротивление распределяет осуществление желания. Представляющая желаемое деятельность, возможно, вступает в действие уже в гипнагогическом состоянии, которое постепенно переходит в состояние сна точно так же, как гипнагогические галлюцинации переходят в сновидение. Эта представляющая желаемое деятельность, как показывает опыт, теперь может быть выражена разной силой. Если она достаточно сильная, чтобы отстаивать свои права, то сновидение совершенно. Если же она слишком слабая, как в состояниях утомления, страха и тяжелых депрессий, слишком неуверенная, то сновидения несовершенны до состояний, являющихся чистыми или почти чистыми гипнагогическими ситуативными представлениями.
Результаты языкового исследования удивительным образом в некоторой степени похожи на результаты исследования сновидений. Интересно следующее: в соответствии с результатами исследований детей и языка, я предположила, что, возможно, есть языки, которые не различают никакой временной направленности, также как и никакого настоящего, прошлого и будущего. Это предположение утвердилось в моем вопросе к известному языковеду профессору Балли в Женеве.
Балли сообщает мне, что есть языки, которым не известно время как направление, а исключительно как длительность в смысле, как, например, имперфект и перфект различаются друг от друга по продолжительности (сравните французское je parlais et ye pariah). Сама длительность часто заменяется различием однократного, соответственно, многократного действия. Конечно, это не значит, что у этих народов нет никакого понятия направления времени; речь идет лишь о языковом выражении. Язык всегда архаичнее мышления, он волочится за видами мышления, которые мы давно преодолели. Необходимы столетия, чтобы избавиться от языковой глупости, которую осознанно понимаем. Аналитикам это сразу же понятно: язык образуется не сознательно, а преимущественно в предсознательном: кроме того, он не должен соответствовать322 исключительно требованиям только сознательного мышления, но также и предсознательного (которое, со своей стороны, естественно, подвергается влиянию бессознательного).
Как и сновидческое мышление, язык прошлого сильнее отделен от языка настоящего, чем будущего; Балли говорит следующее:
«В индоевропейских языках, как в более старых, так и в более новых, прошлое, скорее, является настоящим и будущим. Выражение для будущего имеет новое происхождение. Можно даже усомниться, есть ли в индоевропейских языках настоящий футурум: каждый индоевропейский язык создал себе футурм на свой лад, это временная форма, которая с трудом укореняется и поэтому постоянно колеблется, в любой новой языковой группе образуется иначе; образование «amo, amabo» в латинском языке совершенно самостоятельное, чего не находят в других индоевропейских зыках. Романские языки (французский, итальянский и др.) образуют футурум через описание, например, латинское «amare habeo» (дословный перевод «я должен любить») в переводе на французский будет звучать как: «j’ ai (a) aimer». Вместо этого у нас есть противоположная конструкция: «(je)’aimer ai», которая позже объединилась в «j’aimerai». Мы встречаем глагол “должен” как выражение футурума в английском языке, это значит, например, «I shall like» – «Я буду любить» (должен любить); также англичане используют «I will» = я хочу: «I will like». При помощи вспомогательного слова «will» они первоначально подчеркивают намерение, и это дает идею развивающегося действия, таким образом, футурума. В немецком языке присутствует футурум в отношении сновидения, длительного настоящего, становления. Сейчас это становление больше не чувствуют, но по своему происхождению это именно оно. Язык ставит во главе идею действия, например, действие письма. Включенная таким образом продолжительность должна дать нам идею будущего: «Ich werde schreiben». Немцы говорят также «Ich will schreiben»».
Действительно своеобразным и поучительным является русский язык. Он обладает так называемыми имперфективными или постоянными формами (соответственно, формами для многократных действий) и перфектными или совершенными формами (соответственно, для однократных действий). Таким образом, существуют две формы инфинитива, претеритум и футурум. Для настоящего же, напротив, используется исключительно имперфективная, т. е. длительная форма. Язык различает в этой имперфективной форме краткую, более непрерывную и продолжительную, более прерывную продолжительность, например, «я пишу» и «я пописываю». Эти нюансы продолжительности и частотности действия в русском языке так четко отличаются, что было бы невозможно передать их все здесь. Внутри одной временной формы изменение продолжительности достигается при помощи как суффиксов, так и приставок. Так, например, из имперфективной или длительной формы «я писал» посредством прибавления приставки «на» образуется перфектная форма: «я написал» = «я писал» (однажды). Имперфективный или длительный футур образуется так же, как в немецком языке при помощи вспомогательного глагола «werden» (в русском «буду»). Для перфективного футура, можно сказать, нет никакой специальной формы: это перфективный, т. е. совершенный или однократный презенс; потому что, как мы видели, в русском языке нет перфективного презенса. Перфективный футур образовался из имперфективного презенса в результате добавления суффикса. Так, «я пишу» и «я напишу» в будущем образуется точно также, как и перфектум из имперфекта в прошедшем – исключительно посредством прибавления приставки, устраняющей длительность (сравните, «я писал» (длительное) и «я написал» (однократное)). В соответствии с этим перфективный футур – это несамостоятельная грамматическая форма, она может рассматриваться в качестве перфективного презенса и отличается от «настоящего» презенса лишь подавлением длительности.
Следует отметить еще дальнейшую аналогию с языком сновидений: Балли показывает мне, что все суффиксы, как и наречия времени, заимствованы у пространственных представлений: например, французское «apres» образуется из «pres» = «близко», «у» (в пространственном отношении); «tard» = «поздно» из латинского «tardus» = «медленно» (как движение в пространстве) и т. п.
Теперь я хотела бы, на собственный страх и риск, осмелиться на одно объяснение. Балли предостерегает меня именно от искушений такого рода. И поэтому я хочу представить мое утверждение не как гарантию, а как возможность, которая, однако, кажется мне более чем вероятной.
Мы представляем себе, что язык образуется в предсознательном. Если словесный язык образовался бы сознательно, то почему он так мало приспособлен к нашему сознательному мышлению и показывает так много общего с образной речью сновидения? Почему понятие направления времени во многих языках также выражено не полностью, соответственно, почти