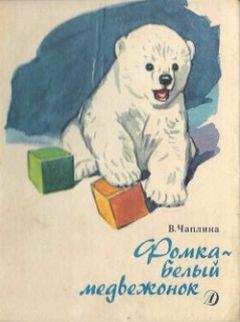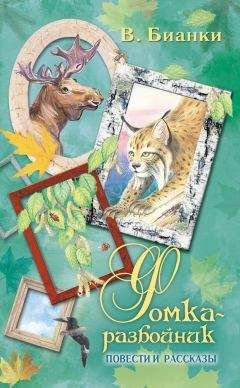не говори. Что ты в моей жизни понимать можешь, когда мы десять лет не видались. Ты еще матушкин недотыка был, едва помнишь, поди, как мне лоб-от забривали! А я с тех пор и под палками бывал, и под пулями султанскими. За Рущук бляху на кивер имею!
— Знаю, — сказал Ширинкин.
— Знают и дьячихи, что кутью варят из гречихи... Ну, давай дальше играть!
В конце концов он выиграл, опередив Петра и хозяина нумеров на десять, — то ли везло ему, то ли фишки знал на ощупь. Облапив раскоряченными пальцами бороду, долго разглядывал карты, потом деловито пригреб к себе медяки, выпил, не наливая никому, еще чарочку и вдруг запел глухим вздрагивающим голосом:
— Как Паскевич, граф Паскевич, господи-ин, Опивает-объедает наше жалованье,
Боевое, строевое, третье денежное-е».
Пел он, ни на кого не обращая внимания, как если бы один сидел в избе. Вышла из-за перегородки жена Ширинкина, встала у косяка, сложив руки под грудью.
— ...Он на эти-то на деньги, граф, палаты себе склал, Он повыстроил хоромы, бел-хрустальной потоло-ок, И на том ли потолку бежит речкою вода-а, Бежит речкою вода-а, бела-рыба пущена, Бела-рыба пущена, кровать нова взмощена...
Он оборвал песню так же внезапно, как и начал. Провел ладонью по груди под рубахой, сминая жесткую поросль. Пояснил:
— Душа горит!
И с этим его движением Петр припомнил наконец, где он видал Егора прежде...
Лет десять назад, еще перед турецкой кампанией, ходили они с отцом смотреть, как увозят из Чермоза рекрутов. Рекруты, трое парней, медленно шли по улице рядом с подводами. Толпа, истончаясь, тянулась за ними от конторского крыльца. Мужики на ходу подносили рекрутам и полицейским служителям вино, пили сами. Бабы, одетые во все белое, голосили, как на похоронах, цеплялись за парней. Те отстранялись, бестолково шарахаясь из стороны в сторону. Ребятишки визжали. Пыль застилала глаза. Первым шел высокий черноволосый парень. Одной рукой он обнимал всхлипывающую женщину, а другой так же водил под воротом рубахи, будто жгло ему за грудиной. Они прошли совсем рядом, и отец сказал: «Не слесарь был, а золото. Аглицкие замки умел работать. Да норовист больно. Вот Иван Козьмич и расстарался, не поглядел на убытки...» — «Допрыгался Егор! — с довольным смешком отозвался стоявший возле приказчик Ромашов. — А ведь вольную хотел получить, в город податься... Вот и получай заме- сто вольной солдатский билет!» Егор первым запрыгнул на подводу, вырвал у возницы вожжи, хлестнул лошадь. Крик взлетел над улицей. Бабы, срывая с себя платки, простоволосые, поволочились в пыли за подводами, потом отцепились. Петр смотрел, как они вставали на ноги, потерянно озираясь, как шли назад, и таинственная полупонятность всего происходящего наполняла душу сладким ужасом...
— В отпуску? — спросил Петр.
- Ширинкин усмехнулся:
— Леший ему отпускной билет выправлял!
И Петр понял — беглый.
— Что ты можешь про рабство понимать! — оборотился к нему Егор. — Черная зависть в тебе говорит, что с господами вровень встать не можешь. А наш брат для тебя — плюнуть да растереть!
Петру вспомнилось, как Клопов однажды про декабрьское возмущение толковал: решили, мол, корнеты с подпоручиками разом тех чинов достигнуть, каких службой и добродетелью всю жизнь достигать надобно... И вот теперь ему самому то же говорилось. .
Ширинкин вступился за него:
— Знаешь, Егор, присловье есть: в книгу глядит, а огонь говорит... Об нем и сказано!
Петр начал объяснять про общество — как составилось и какую цель имеет. Егор слушал внимательно, кивал: «Дельно... Дельно!» Но, услышав про сенатора в Петербурге, помрачнел:
— Где господа, там и обман. Их козье племя с концом переводить пора!
— Дворяне тоже разные есть, — сказал Петр.
— Разные-то разные, а супротив мужика все за- один... И когда подняться думаете?
— Когда общество умножится.
Егор присвистнул:
— Э, парень, долгонько ждать придется. До морковкина заговенья... А я ждать не могу, схватют. День- два побуду и уйду.
— И куда же?
— Беловодского царства проведывать.
Петр удивился:
— Не знаю я такого царства.
— Есть такое царство, — насупился Егор, — Бело- водское. Все там по божецкому закону живут. Ни помещиков, ни других каких господ нет. Да и воровства, обману, грабежу в христьянах нет же. Молются там по старому закону, двоеперстно. Младенцев посолонь крестят. А плоды в том царстве всякие родятся: и рожь, и пшеница, и виноград, и сорочинское пшено, рис то есть... Мне про то царство старец один в Чугуеве сказывал. Его после унтер к полковнику отвел. Так он, старец-то, полковника нашего все «братцем» величал. Тот взъярился: «Ты как смеешь мне такое слово говорить?» А старец: «Это по-вашему, кто царь, кто енарал, а по-нашему все братья!» И шапки не сымал, покуда не сбили.
— Где ж оно, это царство? — спросил Петр.
— Далеко... Мне б только до Алтайских гор добраться, а там найдется, кому дорогу указать. От Китайского государства, сказывают, сорок четыре дня пешего пути к беловодской границе... А вот вы, ежли власть возьмете, как все устроить полагаете?
— Не было бы рабства, а там само все устроится.
— Нет, парень. — Егор встал, тяжело навис над столом.— Для тебя, может, и устроится. А для меня? Для него? — он ткнул пальцем в Ширинкина. — Посолонь младенцев крестят, нет ли—нам все одно. Кто как хошь, так и ходи круг налою. А чтоб власти господской не было, чтоб мужик всему был голова — вот дело! И солдатчины не будет. С кем воевать-то?
Петр тоже встал:
— Ну, а не найдешь ты этого царства, тогда что?
Егор неожиданно улыбнулся и ткнул Петра кулаком в плечо:
— Может, и к вам приду, ежли под палками где не кончусь. Примешь в свое общество?
— Приму, — серьезно ответил Петр.
Ширинкин, провожая его, вышел на двор.
— Упреждать тебя не буду, — сказал он на прощанье.— Не маленькой. Молчи, знай... Глядишь, и дождемся весточки из того Беловодья! Жаль, не скоро еще. До весны мы его у сродников схороним...
Ночь была морозная, тихая. Полная синяя луна висела над Чермозом. На повороте, где занесло чьи-то сани, серебрился под луной снег, гладко срезанный санным полозом.
XXIII
Следующие три дня Петр оставался ночевать в училище. В комнату горнозаводского класса он притащил из дому старое одеяло, подстилал его под себя на сдвинутые столы, а сверху укрывался шинелью. Здесь никто не мешал