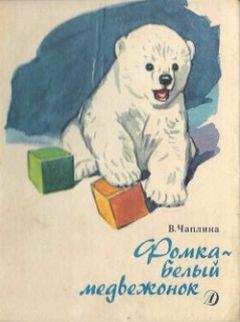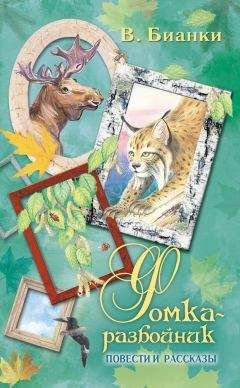до половины. Однако Клопов все же устоял на ногах. Понимая, что Анне от него уже не уйти, он хотел было спокойно задвинуть ящик обратно. Но в эту минуту второй раз за сегодняшний вечер взор его остекленел и остановился.
Воспользовавшись его растерянностью, Анна метнулась мимо. Через мгновение в конце коридора хлопнула дверь. А Клопов так и остался стоять в прежней позе перед открытым ящиком.
В ящике поверх других бумаг покоилось его же письмо, отправленное с лишним три недели назад в Петербург, Христофору Екимовичу Лазареву.
XXX
Крытый возок с колеблющейся на ветру полостью петлял между сугробов над занесенной снегом Камой, приближаясь к Полазне. Федор был спокоен. Он успел закончить все дела, и для возвращения ему не пришлось прибегнуть к хитроумному совету Лешки. Покачиваясь в возке, Федор лениво размышлял о том, что же все-таки заставило Лешку на целых два дня задержаться с поездкой в Пермь. Неужели простое желание с ним повидаться?
Лешка выскочил на двор в одной рубахе, обнял и расцеловал Федора. И Федор, ощутив где-то между ухом и углом рта теплые губы друга, подумал, что ничего странного в письме Лешки вовсе нет. В конце концов, они не видались больше месяца. Подумаешь, задержится на двое суток!
В избе было тепло, пахло травами, которыми отпаивали мать полазненские старухи. Сама мать в пестрой паневе хлопотала у печи — сегодня ей было лучше, что- то булькало в чугунках, и кошка уютно потягивалась у порога.
— Славно иноцем во пустынех! — провозгласил Лешка.
Федор сбросил тулуп, поцеловал мать в щеку.
— Ты бы ему, Лексей, невесту какую подыскал,— мать повернулась к Лешке. — А то он у меня девок боится. Не в отца пошел.
— Какие здесь невесты, — сказал Лешка. — Вы бы его в Чермоз пускали. Вот там невесты! И огурцы солить учены, и «Сизого голубочка» петь...
— Пущу, пущу. Мне получше стает... На рождество и пущу.
На столе дымилась в деревянных чашках похлебка из осердья. Горой громоздился тонкими ломтями нарезанный хлеб. А на вершине этой горы, как облачко, висел белый платочек. И три стаканчика зеленого стекла теснились возле графина со стрельчатой пробкой, налитого, будто лунным светом, белосмородиновой крепкой наливкой.
Через час Федор, сытый и разнеженный, сидел на лежанке. Рядом с обычной своей непринужденностью развалился Лешка.
— Отшельничаешь ты здесь, брат Федор, — говорил он. — Мечтаешь, верно. О чем же ты мечтаешь, позволь спросить? О любви чермозских красавиц? Или, может, о будущей прекрасной жизни? Завидую я, право слово, твоему уединению!
— Живу, — пожал плечами Федор. — Дел в заводе много... А что это за ланкастерская такая школа?
Лешка коротко объяснил ему модную ланкастерскую методу. Суть ее заключалась в том, что сильнейшие ученики под руководством учителя обучают слабейших. Метода эта применялась в училищах для бедных, где мало было учителей и обучали отроков разного возраста.
— Господам на учителей тратиться неохота, — заключил Лешка. — Вот и вся метода. Да и где их добыть, учителей-то? Если меня, к примеру, брать...
— Слушай, — перебил его Федор. — Помнишь, Поносов мне тайный язык для общества поручил составить?
— Помню, — насторожился Лешка.
— В Чермозе мне все недосуг было. А тут я подумал — чего нам мудрить? Возьмем литорею сложную, и дело с концом. Если с умом писать, так и ее не разберет никто.
— Что за литорея?
— Ну вместо букв цифры. Понимаешь? Вот берем имя мое — Федор. И вместо букв ставим числа славянские, которые этими буквами обозначаются. Выходит так: девять, пять, четыре, семьдесят, сто.
— Просто очень, — усомнился Лешка.
— Да ты погоди. Это я тебе простую литорею сказал. А мы сложную возьмем. Гляди-ка! — Федор подошел к столу, пером написал на листе бумаги свое имя и приписал над каждой буквой обозначаемое ею по-славянски число. — А теперь мы к тем числам, что меньше десятка, прибавим, положим, по три единицы. К тем, что больше десятка, и к десятку — по два десятка. От сотни же — по сотне прибавим. Смотри теперь, — он провел узкие, словно летящие цифры. — Теперь мы как имя мое напишем? Девять и три — двенадцать. Пять и три — восемь... И так дальше! Понял? А которых букв в славянской цифири нет, для них особые обозначения ввести можно.
Лешка молчал, ошеломленный привалившим вдруг счастьем. Козыри сами шли в руки, и теперь нужно было не зевать. Ланкастерская школа была придумана для отвода глаз. Единственная цель поездки заключалась в намерении раскрыть Федору положение дел и привлечь его к розыскам манифеста. Лешка приготовил уже самые мрачные краски, чтобы расписать Федору его будущность в случае отказа.
Но теперь все можно было устроить проще и надежнее.
— Это .ж чудесно, Феденька! — сказал Лешка. — И царь Соломон не разберет. Куда там Лобову!
— Нет, ты сам попробуй, — горячился Федор, и от волнения заметнее делалась басурманская желтизна его щек.— Вот слово «рука», положим.
— Рука? — переспросил Лешка, выстраивая в памяти полузабытый ряд славянских цифр. — Рука, говоришь. Первая буква «рцы», значит. Или сотня... Так, прибавим сотню...
— Двести, пятьсот, сорок, четыре, — докончил Федор, довольно засмеялся и бросил перо.
— Хорошо, — вновь усаживаясь на лежанку, спросил Лешка, — а что мы литореей этой писать будем?
— Как 4jo? — растерялся Федор. — Все. Все, что хочешь.
— Ну, а в первую голову?
— Не знаю, пожалуй. У Петра спросим.
— А я знаю, — сказал Лешка. — Бумагу надо твоей литореей переписать. Не дай бог, попадет она кому в руки!
— Точно, — обрадовался Федор. — И кольца я новые отолью. Литореей на них весь девиз написать можно будет.
— Конечно, — одобрил Лешка.
— Послушай, — резко, всем телом повернулся к нему Федор. — Скажи по правде, неужто ты из-за того лишь двое суток здесь просидел, чтобы милого своего Ф. видеть?
Не отвечая, Лешка подошел к столу и налил белосмородиновую в два стаканчика зеленого стекла. Лунный свет позеленел в них, будто облачко набежало.
— Выпьем, — он протянул стаканчик Федору.
Тот взял его и сразу поднял вверх:
— Вольность и верность!
Внезапно Лешка опустил руку со стаканчиком:
— Ты мне обещайся сначала, что я тебя попрошу!
— А что? — спросил Федор, у самых губ уже ощущая горячее золото