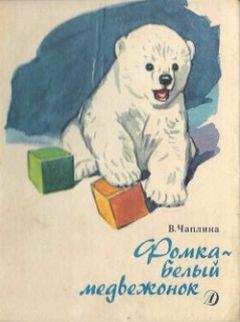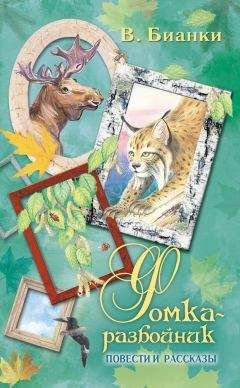а женам и детям их — по прянику.
Веселится Чермоз.
Но запах тления, запах квашеного печорского сига царит под его крышами. Будто виден уже конец пути, и
кресты поднимаются на Голгофе, и в далекой северной столице, над невскими водами крепость Петра и Павла медленно распахивает свои ворота.
XXXVI
26 декабря Петр, стоя у окна горнозаводского класса, смотрел, как Федор Наугольных проворно спустился по ступеням крыльца на пустынную улицу. Левая рука его энергически раскачивалась в такт шагам, а правую он плотно прижимал к туловищу, боясь, видимо, измять лежавший в кармане манифест.
Петр сразу одобрил предложение Федора переписать манифест придуманной им литореей. Это было разумно. Однако о намерении подняться ничего ему говорить не стал. Таких людей, как Федор, нужно ставить перед решением, продуманным во всех подробностях.
Петр легко усвоил тайный язык. Но, понимая, что секретарь общества сделает все быстрее и надежнее, решился доверить ему манифест на один день.
Лист абриса нарезного станка со снятыми нижними рейками висел на стене. Петр похлопывал себя по ладони одной из этих реек. Он видел, как Федор начал пересекать улицу, направляясь к своей тетке, у которой квартировал в Чермозе. В черной своей шинели, с неловко поднятым правым плечом он похож был на вороненка с перебитым крылом. На середине улицы Федор обернулся и помахал Петру рукой. В ответ Петр, как шпагой, отсалютовал ему рейкой абриса. Он еще не успел опустить рейку, как из-за угла вывернула запряженная вороной лошадью кошева. В ней сидели двое. Впереди сжимал вожжи какой-то мужик, а сзади в засыпанном соломой и снегом тулупе развалился его седок. Федор быстро перебежал улицу перед лошадью. И не сразу потом замедлил шаги, будто бы он не лошади испугался, а просто так, сам решил размяться.
Петр улыбнулся.
Он хотел было уже отойти от окна, как вдруг заметил, что кошева остановилась. Человек, сидевший сзади, спрыгнул на землю, подхватив длинные полы тулупа, и Петр узнал в нем Лешку Ширкалина.
Федор тоже узнал его, остановился, улыбаясь. Лешка подбежал к нему. Они расцеловались. Потом Лешка что- то быстро заговорил, а Федор, по-прежнему улыбаясь,
похлопал себя по правому карману. Лешка протянул руку. Федор покачал головой. Лешка требовательно, как нищий в праздник, встряхнул протянутой рукой. Встряхнул так резко, что с нее слетела рукавица. Федор наклонился, чтобы подобрать ее. В этот момент Лешка внезапно прижал правой рукой его голову, не давая Федору распрямиться, а левой выхватил у него из кармана затрепетавшие на ветру листки манифеста.
Все это произошло так стремительно, что прежде чем Петр успел осмыслить происходящее, жалобно трепещущие листки исчезли под тулупом Лешки. А уже в следующую секунду он бросился в сани, выхватил у недоумевающего мужика вожжи и хлестнул лошадь.
Она слегка взбрыкнула задними ногами, обдав снегом замершего Федора, и рванулась вперед. Взмыла и улеглась за полозьями короткая поземка.
Схватив шинель, Петр метнулся к двери. В несколько прыжков скатился по лестнице. Шинель он забросил за спину, на бегу стараясь попасть в рукава, и она летела за ним и над ним, развевалась, как плащ на скачущем всаднике.
Теперь все становилось на своц места. В эти короткие мгновения, когда дрожали и перекатывались под ногами ступени, Петр как бы вновь увидел и вновь пережил все тревожившие его события последних недель. Но теперь их хаос, их вселявший надежду беспорядок исчез, и с безжалостной леденящей точностью он увидел в них порядок, логику, единый замысел. И удивился: «Как можно было не заметить этого раньше?» И разговор о театре с аллегорией, и разбитое стекло шкафа, и Мишенькино испуганное лицо той ночью, и недавний ужас Клопова, и давняя ненужная командировка на Екатерининский завод, и внезапное желание Лешки поставить под манифестом свою подпись — все вндвь прошло перед ним, когда он увидел, как кошева взметнула снежное облако в конце квартала, у дома Ивана Козьмича.
Федор, еще ничего не понимая, сжимал рукавицу Лешки, и губы его обиженно кривились.
— Что это с ним? — спросил он набежавшего Петра. — Мы же не так договаривались!
— А как? — выкрикнул Петр. — Как вы договаривались?
— Что я перепишу сначала литореей. А потом старую бумагу сожжем. Для безопасности.
Рукавица нелепо торчала у него из кулака. Федор сжимал ее словно букетик. В бешенстве Петр наотмашь хлестнул по ней ребром ладони. Рукавица упала в снег, пялясь темным зевом с меховой опушкой.
— Вот оно что!!—Петр приблизил побелевшие губы к самому лицу Федора. — Да ты погляди, куда он ее жечь повез!
Федор повернул голову и лишь сейчас заметил черный, отчетливо видный на снегу лошадиный круп у ворот управляющего.
— Господи! — прошептал он.
Его плечо по-прежнему было приподнято, а правая рука прижата к пустому уже карману. Теперь он еще более сделался похож на увечного вороненка.
— Это все! — закричал Петр, и в памяти всплыла давняя Федорова училищная кличка. — Мулла чертов! Ты хоть понимаешь, что теперь уже все! Совсем все!
Федор потрясенно молчал.
— Уходить надо, — уже спокойнее сказал Петр, попадая наконец в рукава шинели. — Сегодня же. До Перми, а там на Волгу подадимся. Лошадей возьмем... Пойдешь со мной?
— Страшно, — признался Федор. — Сам, поди, понимаешь!
И Петр понял его. Не то страшно, что поймают. Страшнее другое — уходить и знать, что не только дома своего родного не увидишь уже, но и пепелища его. Не только матери никогда не обнимешь больше, но и могилки материнской.
И вспомнилась Анна. Имя ее качнулось в нем, протяжное, как колокольный звон.
— Может, вицами обойдется? — предположил Федор, заглядывая в глаза Петру с тайной надеждой увидеть в них будущее.
И Петр, принимая на себя ответственность за это будущее, если не свое, то хотя бы Федора, сказал:
— Говори, будто взял у меня манифест, чтобы начальству предъявить. А Ширкалин лишь упредил тебя. Если не удастся уйти, я тебя выгорожу!
— Да? — виновато спросил Федор.
— Да.
И желтое лицо секретаря тайного общества, навлекшее на него басурманскую кличку, рывком отодвинулось назад, в прошлое.
«...Сон мне снился нехорош, нехороший, Будто конь меня разнес — чистой
вороной...» «Знать-то, знать-то —
Во солдатах тебе быть, во солдатах...»
Петр бежал по улице, и слова этой песни, которую они пели когда-то вдвоем с матерью, толчками поднимались в нем.
У ворот Ивана Козьмича мужик грел озябшую руку о пышущую паром лошадиную морду.
— Ширкалин там?