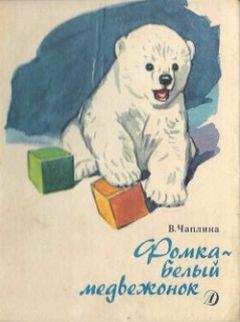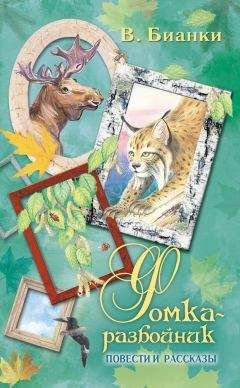без всякого присмотру. Люлек у младенцев нет, а поделаны заместо них решетки из прутьев, как у нищих. Качаются и лежат в одной люльке иногда от двух до трех младенцев на набитых сеном мешках. Удивительно, в таком богатом имении у прикащиков нет подушек, белья, платьев, пелен и других необходимых принадлежностей младенцам. Какой у них рев, шум! Один заплачет, и все в голос. Можно ли тут младенцу воспитываться и быть живу, которой младенец всегда ищет простора, покоя, тишины, нежности и заботы материнской. Больной со здоровым вместе лежат, один от другого заражаются и умирают. Здешний горный исправник Платонов стыдится даже мимо пройти, а младенцы ют жестокости его погибают. Управляющий Сигов неправедно наживается, выстроил себе каменные палаты, а на воспитание нещастных малюток для одного деревянного воспитательного дому пожалел десяти аршин земли. Сердца исправника Платонова и управляющего Сигова непреклонны к чувству человечества. И это несмотря на то, что сам ныне царствующий монарх в манифесте 1802-го года, от мая 16-го дня, исполненный небесным вдохновением, говорит: «Чтоб показать, как близки к сердцу моему несчастные жертвы ожесточенного рока, я беру их под особливое и непосредственное покровительство свое...» После такого милосердия, от престола исходящего, не должно ли было ожидать, что управляющий и исправник, подражая столь высокому примеру, вседушно подадут руку помощи невинным сим тварям, требующим человеколюбия и соболезнования, которые могли бы быть полезны отечеству?
Но нет!
Обратите взор на незаконнорожденных в здешнем воспитательном доме младенцев. Сигов с прикащикамв презирают сие богоугодное заведение, отпускают весьма скудный провиант и, не наблюдая того самолично, вынуждают в противность указа 1715-го года ноября 12-го, повелевающего «избирать искусных жен для сохранения зазорных младенцев», вынуждают, говорю, нерадиво приставленных негодных надзирательниц морить с голоду невинные создания. И как, слышно! Таковые женщины лили им в горло кипяток, состоящий из молока с водою, от чего они и погибали. Также крайность голода принуждала сих младенцев ручонками своими искать в щелях тараканов, которых с жадностью они ели. А что может быть жалостнее, как новорожденный младенец, который всякой помощи лишен и неминуемой гибели подвержен. Безвинно, говорю, безвременно. А не первой ли это предмет сострадания человеческого быть должен?»
Третий пункт составляли подсчеты, произведенные Евлампием Максимовичем:
«Ежели примерно положить в год из числа более, чем 20 000 душ обоего пола здешних владений г-на Демидова средним числом 40-к подкидываемых младенцев, то в течение 17-ти лет со времени построения воспитательного дому их должно быть 640-к. Хотя б была половина сего! В семнадцать лет едва ли до двух десятков воспитанников представлено быть может. Остальные в младенцах померли. Вот видимый результат неправды, творимой в здешних заводах!»
Ниже Евлампий Максимович указал:
«К подаче надлежит министру юстиции, генералу от инфантерии, сенатору и кавалеру, князю Лобанову-Ростовскому».
Еще ниже:
«Сие прошение писал, сочинял и руку приложил сам проситель, отставной штабс-капитан Евлампий, Максимов сын, Мосцепанов».
Расписался, сдвинул последний листок и посмотрел на картину «Падение Фаэтона». Хороша была картина, и весело блестел на ней сковывавший краски секретный лак тагильского изобретения. Под лаком, в правом верхнем углу, круглилось рыжее солнце, заливая всю картину неумолимым своим сиянием. Пониже солнца радуга изгибалась. А по радуге мчалась хрупкая, точно соломенная, коляска — мчалась во весь опор, но уже заваливалась набок, и тройка лошадей, диковинная тройка без дуги и колокольчика, повисала копытами над пустотой. На коляске, не держась ни за что, стоял отрок в белой хламиде. Он протягивал руки к солнцу, не веря еще, что падает, а сам рушился уже в бездну вместе с коляской и лошадьми. И видно было, что не удастся ему ничего поправить, что упадет он, всенепременно упадет. Но в том-то и состояло искусство живописца, что хотя видно все было, а не хотелось в это верить. Наоборот, хотелось верить, что сейчас нащупают кони радужный мост своими копытами, опадут раздутые их ноздри, как пена на молоке опадает, и вновь выправится соломенная коляска, одевающаяся уже язычками неумолимого огня.
Отец Татьяны Фаддеевны не дал себе труда проникнуть в глубь эллинских вещих баснописаний. Евлампий Максимович давно понял, что Рябов перепутал несчастного Фаэтона, вздумавшего заместить собой небесное светило, с безрассудным Икаром, от этого светила пострадавшим. Потому картина не вовсе соответствовала, что, впрочем, было пустяком по сравнению с иными угадывавшимися в ней соответствиями.
Отрок в белой хламиде кренился над бездной, а Ев- .лампий Максимович сидел в своей постели. Но тем не менее оба они совершали гибельный в равной степени полет, воспаряя один телом, а другой — духом и слогом, н оба они при этом с мольбой простирали руки, один с хлыстом, другой с пером, один к солнцу, другой к сенатору и кавалеру, князю Лобанову-Ростовскому.
VIII
Несмотря на высказанные дядькой Еремеем опасения, нельзя сказать, чтобы Татьяна Фаддеевна была к нашему герою совершенно равнодушна. Нет, она ценила его ум, и горение души, и способность ко всяческой цифири, и ту обстоятельность во всех предприятиях, которой так недоставало ее покойному мужу. Покойник Федор был хороший человек и тоже за правду стоял, но его никто не боялся — ни крепостные люди, ни начальство. Мастеровые мимо него, как мимо столба, проходили. Перед Евлампием же Максимовичем работный люд ломал свои картузы едва ли не с большим усердием, нежели перед Сиговым или Платоновым. И куда как с большей охотой.
Это Татьяне Фаддеевне приятно было.
Она любила слушать его рассказы про заграничный поход, испытывая неведомое прежде волнение при мысли о том, что рука, поглаживающая ее пальцы, сжимала некогда рукоять палаша. Возле губ у Евлампия Максимовича рассыпаны были синие точки — намертво въевшиеся в кожу крупинки пороха. И когда Татьяна Фаддеевна представляла, как эти губы припадают к ее губам, она ощущала их жар, потаенную горячность, будто пороховые крупинки раскаляли изнутри бледные уста Евлампия Максимовича. Тогда у нее самой тоже горя- чели губы, высыхали. Она обводила их кончиком языка, закусывала крепко и от влажности этой волновалась еще больше.
Но, странная вещь, хотя и губы пересыхали, и уважение было у нее к Евлампию Максимовичу, но не было таяния души, простой бабьей жалости, которая к Федору имелась, особенно в молодые годы. Может, истаяло уже все, что могло в ней, душе-то, таять, изошло девичьим давним томлением и любовью к детям. Лишь однажды она в себе это узнала — когда увидела скрюченное сердечным припадком тело Евлампия Максимовича на «казенном дворе». Так он лежал тогда сиро в той пыли, такое лицо у него было удивленное, непонимающее, как у