Ознакомительная версия.
Проектная эволюция: от научного лесоводства к социальным революциям
Прежде чем экспериментировать над обществом, попробовали «упорядочить» природу. Так родилось научное лесоводство. Родом из Пруссии (конец XVIII в.), оно воплотило легендарное прусское представление о порядке и красоте как единообразии и стандартизации – все по ранжиру, деревья одной породы, долой подлесок, прямые просеки вместо витиеватых тропинок. Эстетический компонент был вторичен, в качестве целевой функции выступали экономические показатели продажи древесины. И действительно, доходы от продажи древесины на первых порах научного лесоводства резко возросли. Но вскоре возникла проблема – лес стал чахнуть. Сложные биоцепочки оказались нарушены, и лес вместо источника дохода стал вместилищем колоссальных дотаций (удобрения, борьба с вредителями, необходимость новых посадок и проч.). Лишив лес разнообразия и сложности, снизили потенциал его гибкости и устойчивости.
Но «лесной урок» не пошел впрок. И вот уже идеи прусского лесоводства переходят в архитектуру: выпрямляют улицы, строят монофункциональные кварталы, вычисляют «научные» нормы потребности человека в свете, тепле, пространстве. Потребность поболтать с соседкой по формуле не вычисляется, а следовательно, не признается. Город не для жизни, а для выполнения функций становится новой архитектурной модой. Функции населения понимаются крайне утилитарно: люди должны работать, для чего им необходимо отдыхать, спать, размножаться, быть здоровыми, а это требует соблюдения гигиенических стандартов, застывших в камне. К тому же люди должны быть управляемыми, что предполагает зонирование их деятельности, а также транспортную доступность к самым удаленным точкам города в ходе административных проверок или карательных акций.
И тот же результат: из таких городов уходит жизненная сила. Лес тихо погибал. Гибелью он выражал протест против примитивного научного вмешательства, сводимого к предельному упрощению его внутренней логики. Люди как существа более живучие, к тому же наделенные волей и способностью действовать, гибнуть не торопились. Они бойкотировали архитектурные изыски, отказываясь наслаждаться видом города с высоты птичьего полета и упорствуя в желании получать удовольствие от города, вооружившись логикой и чувствами простого пешехода. И вот уже три четверти населения Бразилиа – архитектурного воплощения идеи «лучезарного города» Ле Корбюзье[3] – поселилось в незапланированных кварталах, в то время как в запланированном городе разместилось меньше половины проектируемого населения.
Покорением пространства не ограничились. Апогеем самонадеянности реформаторов стало целенаправленное изменение общества во всех его проявлениях. Социальное проектирование столь решительно кроит новый костюм мира, что не останавливается перед кромсанием фигуры, лишь бы костюмчик сидел. Власть берет на себя смелость решать, что из нынешнего следует взять в будущее, а что – похоронить за ненадобностью. Объектами планирования становятся образ жизни, технологии ведения домашнего хозяйства, гражданская мораль, хозяйственная кооперация и политическая самоорганизация. Прусское лесоводство и русская революция представлены как звенья одной цепи маниакальной инженерии. Лес уподобляется машине по приросту древесины, города становятся машинами для жизни, а партия – машиной («локомотивом истории») втягивания масс в светлое будущее, не ими придуманное и не ими желаемое. От перестройки живой природы к упорядочиванию пространства, а затем к моделированию общества – такова в общем виде эволюция притязаний модернистов. У этих вех есть общие основания.
Первое: порядок, насаждаемый властью, основывается на упрощении практики через предельное сокращение значимых характеристик объекта. Чем меньше разнообразие объектных проявлений, тем легче этим объектом манипулировать, т. е. научно управлять. «Способы управления требуют сужения поля зрения» (с. 29)[4]. Признавая за лесом исключительную способность прирастать древесной массой и отказывая ему в праве и возможности быть вместилищем жизни птиц, зверей, насекомых, преградой ветру и осушителем почв, добились наилучших условий производства древесины. Успехи были столь же впечатляющи, как и временны. Видя в человеке исключительно работника, создали возможность эффективно трудиться – просчитанные до метра кухни не отвлекали от простой задачи насыщения калориями, а стерильная инфраструктура удаленных от деловых зон жилых кварталов не предусматривала другого варианта, кроме физиологического восстановления сил между рабочими сменами (что верно подмечено в названии «спальные микрорайоны»). Та же логика ограниченной функциональности прочитывается и в узкой специализации советских совхозов и колхозов. Целевые преобразования модернистов опираются на представления об однофункциональности объекта.
Второе: проекты по переделке общества, равно как и природы, освещены именем науки. Преклонение перед словом «прогресс» являлось неотъемлемой чертой интеллектуального настроя XIX и XX вв. Огромные авансы, выданные человечеством науке, безусловно, были не беспочвенны: победы над многими болезнями, развитие транспорта, снятие угрозы голода – лишь начало списка благодеяний науки. Их ощутимость породила эйфорию, снимающую вопрос о пределах научного вмешательства. Общество предстало еще одним полигоном облагораживающего проектирования. Безграничная вера во всесилие науки не позволила вовремя остановиться. Модерн, устремленный в будущее, оказался довольно безжалостным к настоящему. Западоцентризм науки заклеймил иные порядки хозяйствования, сложившиеся в развивающихся странах, как варварские и отсталые.
Третье: для осуществления масштабных проектов преобразования общества нужна авторитарная власть. Общество защищается от попыток его «облагородить», и единственный шанс сломить его самооборону – это лишить его институциональных форм самовыражения (свободы слова, институтов гражданского общества, парламентаризма). К тому же «проекты века» дорогостоящи, добиться согласия налогоплательщиков на их осуществление не просто. Идеальна модель власти, гарантирующая беспрекословность масс. Дистанция формального порядка от неформальной практики тем больше, чем меньше демократии. Не случайно мировые архитектурные авангардисты мечтали сотрудничать с советской властью или с амбициозными правителями развивающихся стран, готовыми вести летоисчисление «с нуля». Самые решительные реконструкции Парижа пришлись на правление Луи Бонапарта, а сторонники гигантских индустриальных агрофирм, в первую очередь американцы, завидовали возможностям советских коллег, создающих новый аграрный порядок в ходе коллективизации. Только авторитарная власть могла предоставить модернистам площадку под эксперименты, словно выровненную бульдозером. В других условиях преобразования надо было вписывать в уже существующий контекст, адаптировать к традициям, учитывать готовность населения к нововведениям. Вряд ли что-то раздражало преобразователей больше, чем эти ограничения. И отношение к ним было как к песку в двигателе устремленной в будущее машины. Показательно, что Ле Корбюзье называл строительство в уже сложившемся архитектурном ансамбле «ортопедической архитектурой». Для полного счастья ему не хватало дружбы с советским правительством.
Ознакомительная версия.

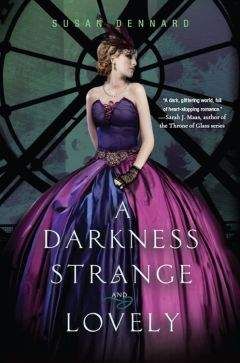

![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)
