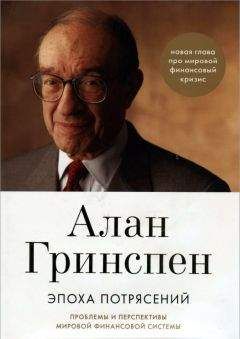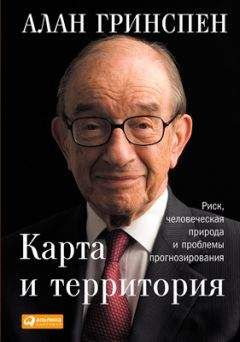Ознакомительная версия.
Средняя школа Джорджа Вашингтона, находившаяся в полутора милях от нашего дома, считалась одной из самых больших и престижных в Нью-Йорке, Когда я поступил в нее осенью 1 940 года, она была рассчитана на три тысячи человек (включая вечернее отделение), однако в действительности учащихся было намного больше. Тех, кто жил за пределами района, принимали на конкурсной основе, причем отбор проводился весьма жестко. Причиной в определенной мере была Великая депрессия — большинство из нас могли рассчитывать в жизни только на самих себя, и мы понимали, что для достижения результата нужно упорно трудиться2. В то время уже явно ощущались признаки надвигающейся войны, хотя до Перл-Харбора оставалось больше года- Нацистская Германия захватила всю Западную Европу, а по радио потоком шли сообщения о судах, потопленных а Атлантике немецкими подводными лодками, и транслировались репортажи Эдварда Марроу о налетах люфтваффе на Лондон,
Приближение войны чувствовалось еще и по количеству беженцев среди учеников нашей школы. В основном это были дети из еврейских семей, укрывшихся в США от преследований нацистов. Когда я поступил в школу Джорджа Вашингтона, ее заканчивал Генри Киссинджер, с которым мы познакомились лишь три десятилетия спустя. На занятия по математике вместе со мной ходил венгерский мальчик-беженец Джон Кемени, впоследствии ставший помощником Эйнштейна, одним из авторов языка программирования BASIC (совместно с Томасом Куртцем) и президентом Дартмутского колледжа. Джон приехал в Америку незадолго до нашего знакомства и говорил по-английски с заметным акцентом, но в математике он был необыкновенно силен. Меня очень интересовало, откуда у него такие способности и не являются ли они результатом того образования, которое он получил в Венгрии. Однажды я спросил Джона: «Ты так хорошо знаешь математику, потому что приехал из Европы?» Мне ужасно хотелось, чтобы ответ был утвердительным. Это означало бы, что его превосходство не следствие таланта и что я могу добиться таких же успехов путем усердных занятий. Однако мой вопрос, по-видимому, озадачил его. Джон пожал плечами и ответил: «Так ведь... все мы из Европы».
Учился я неровно, хотя и довольно старательно. Когда мне удавалось сосредоточиться на учебе, результаты оказывались неплохими, особенно в математике. Но в тех дисциплинах, которые не представляли для меня интереса, мои успехи были посредственными, поскольку бейсбол и музыка отнимали слишком много времени. Постепенно занятия музыкой стали приобретать все большее значение для меня. Помимо прочего, они приносили мне деньги — я играл в танцевальных оркестрах и по выходным мог заработать порядка 10 долларов за пару выступлений.
Я очень хорошо помню тот день, когда японцы нанесли удар по Перл-Харбору. Занимаясь на кларнете в своей комнате, я в перерыве включил радио и услышал сообщение о нападении. Как и большинство окружающих, я понятия не имел, где находится Перл-Харбор. У меня и мысли не было, что это начало войны. Я надеялся, что скоро все утрясется. В пятнадцатилетием возрасте любые проблемы, кроме личных, кажутся далекими и малозначительными.
Однако не замечать войну было невозможно. Уже весной ввели распределение продуктов по карточкам, а большинство ребят отправлялись в армию сразу же после окончания школы, едва достигнув восемнадцати. Летом 1942 года в составе оркестра из шести музыкантов я отправился работать в один из курортных отелей в горах Катскилл. Молодежи среди отдыхающих практически не было, преобладали люди среднего и пожилого возраста. Настроение у всех было подавленное. Всю весну американский флот стремительно терял позиции на Тихом океане, и даже после решающей победы США у атолла Мидуэй цензура действовала настолько жестко, что реальное положение дел оставалось для обывателей неизвестным. Так или иначе, особого оптимизма в обществе не ощущалось.
Окончив школу в июне 1943 года, я даже не собирался поступать в колледж, В марте 1944-го мне исполнялось 18 лет, и оставшееся время до призыва в армию я хотел посвятить музыке. Поэтому я продолжал играть в небольших ансамблях и записался в Джуллиардскую музыкальную школу, где начал брать уроки кларнета, фортепиано и композиции. Если у меня и были какие-то планы на будущее, то они не шли дальше возможного зачисления на службу в военный оркестр.
Весной 1944 года мне прислали повестку. До медицинской комиссии пришлось долго ехать на метро в южную часть Манхэттена, в Бэттери-парк. Она находилась в бывшем здании таможни — огромном строении со скульптурами, фресками и высокими гулкими сводами, где сотни юношей моего возраста толпились в очередях к специалистам. Все шло нормально, пока мне не сделали рентгеноскопию легких. Через некоторое время после этой процедуры меня подозвал к столу сержант и сказал: «Слушай, у тебя в легком обнаружили затемнение. Активная форма или нет, неизвестно». С этими словами он протянул мне какие-то бумаги и назвал адрес врача-фтизиатра, к которому я должен был прийти на прием и затем сообщить результат в комиссию. На следующий день специалист осмотрел меня, но и он не смог поставить точный диагноз. «Придется понаблюдать тебя с годик». — сказал врач. В общем, меня признали непригодным к военной службе.
Я ужасно расстроился. Все служили в армии, и я чувствовал себя неполноценным. Кроме того, меня начал одолевать страх — а вдруг это и вправду что-нибудь серьезное? Однако я не находил у себя тревожных симптомов вроде затрудненного дыхания, хотя при игре на кларнете и саксофоне они обязательно проявились бы. Затемнение на снимке все же нельзя было сбрасывать со счетов. Помню, как несколькими днями позже, сидя с подругой на поросшем травой склоне холма и глядя на мост Джорджа Вашингтона, я произнес: «Если у меня действительно туберкулез, моя песенка спета».
Из мрачного состояния мне помог выйти преподаватель игры на саксофоне Билл Шейнер. Это был один из легендарных наставников многих джазовых музыкантов. Следуя собственной методике, он объединял учеников в небольшие группы в составе четырех-пяти саксофонов и кларнета и предлагал им сочинить что-нибудь самостоятельно. В моей группе со мною рядом сидел пятнадцатилетний паренек по имени Стэнли Гетц. Сегодня историки джаза ставят его в один ряд с Майлсом Дэвисом и Джоном Колтрэйном. Предлагать мне угнаться за Стэнли было все равно что предлагать таперу из коктейль-бара посостязаться в исполнении арпеджио с Моцартом. Мы с Гетцем неплохо ладили, но, когда он начинал играть, я мог лишь застыть в немом восторге. Иногда при встрече с одаренным человеком видишь. что надо делать для достижения таких же результатов, и надеешься, что тебе удастся повторить их. Но есть таланты от рождения, сравняться с которыми невозможно. Стэн Гетц относился ко второй категории, и я инстинктивно чувствовал, что никогда не научусь играть так, как он.
Все же занятия у Шейнера помогли мне намного лучше освоить саксофон, что свидетельствует о несомненном педагогическом даровании моего наставника. Когда я сказал Шейнеру, что меня признали негодным к военной службе, он лишь расхохотался в ответ и сказал: «Ну что ж. теперь никто не помешает тебе найти работу!» И сообщил, что в оркестре Генри Джерома есть вакансия.
Оркестр Генри Джерома, состоявший из четырнадцати музыкантов, был довольно известен на восточном побережье. После прослушивания меня приняли, и с этого момента моя жизнь кардинально изменилась. Если проводить аналогию с бейсболом, то в высшую лигу я еще не попал, но в команду класса ААА меня уже зачислили. Это была настоящая профессиональная деятельность, предполагавшая уплату профсоюзных взносов и позволявшая мне зарабатывать неплохие по тогдашним меркам деньги. Половина выступлений проходила в городе, а остальное время мы гастролировали по восточным штатам. Именно тогда я впервые начал самостоятельно выезжать за пределы Нью-Йорка.
Оркестр Генри Джерома — один из передовых джазовых коллективов тех лет — был самым лучшим из всех, в которых мне довелось играть. Впоследствии он обрел собственный стиль исполнения, сочетавший элементы традиционного биг-бенда и бибопа Чарли Паркера и Диззи Гиллеспи. Хотя оркестр Джерома так и не снискал неувядающей славы, многие из моих тогдашних коллег и наших преемников сделали блестящую карьеру. Например, тромбонист Джонни Мандел уехал в Голливуд, написал известный шлягер «Тень твоей улыбки» и музыку к сериалу «Чертова служба в госпитале МЭШ». получил «Оскар» и четыре премии «Грэмми». Барабанщик Стэн Леви выступал вместе с Чарли Паркером. Ларри Риверс стал прославленным художником, мастером поп-арта, а мой коллега-саксофонист Ленни Гармент — юридическим консультантом президента Никсона.
В 1944 году, когда в войне произошел перелом, наш музыкальный стиль был весьма популярен. В течение последующих 16 месяцев мы выступали в таких известных местах, как «Голубая комната» нью-йоркского отеля Lincoln и ресторан Child's Paramount на Таймс-сквер. Танцевальные мелодии в исполнении нашего оркестра звучали на площадках Вирджиния-Бич (неподалеку от города Ньюпорт-Ньюс), где аудитория состояла в основном из семей судостроителей и военных моряков. Во время концертов в театрах мы иногда делили гонорар с другими эстрадными исполнителями — детскими танцевальными коллективами, готовившимися к съемкам в Голливуде, и певцами, которые приобрели известность еще в эпоху расцвета Эла Джолсона. Весь декабрь 1944 года мы провели в Новом Орлеане, выступая в отеле Roosevelt. До этого я еще никогда не уезжал так далеко от дома.
Ознакомительная версия.