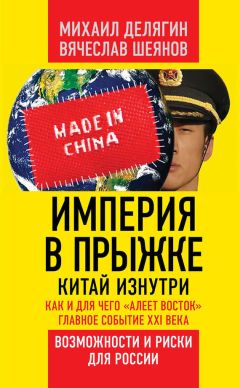Бытовые истории о глубине различий китайских диалектов (из-за которых, например, зачастую плохо понимали даже Мао Цзэдуна, говорившего на хунаньском) отнюдь не являются преувеличением.
Одному из авторов пришлось столкнуться с этим в небольшом ресторанчике в Сычуани, где названия блюд не только не сопровождались иллюстрациями, но и были (что вполне традиционно для туристических мест Китая) избыточно поэтичными, так что меню не позволяло понять о них практически ничего. Молоденькая официантка не говорила на мандарине (официальный китайский язык на основе пекинского диалекта) и не понимала его, а пекинские гости точно так же не понимали сычуанский диалект. В результате диалог через некоторое время приобрел полностью письменный характер.
В Тибете же и вовсе возникла анекдотическая ситуация, когда тибетец-экскурсовод, искренне веривший, что свободно говорит на мандарине, в конце концов был вынужден вести экскурсию на английском (точнее, на «пиджин-инглиш»[19]), русский член группы выступал в роли переводчика для китайских коллег, говоривших по-русски, а те уже переводили услышанное на китайский для остальных экскурсантов.
Этническая солидарность проявляется в мириадах повседневных деталей и, конечно же, находит свое отражение в языке. Так, у нас нет собственно русского слова для обозначения эмигрантов, покинувших нашу страну,[20] но в целом это слово до сих пор имеет отчетливо негативный характер, оставаясь по смыслу довольно близким к «невозвращенцу» еще сталинских времен. Китайское же «хуацяо» дословно означает «мост на Родину» и подчеркивает не отделенность живущего за границей китайца от его страны, но, напротив, его нерушимую связь с ней, даже если он никогда не видел ее и, скорее всего, никогда ее не увидит.
Терпимое отношение к эмигрантам весьма характерно проявилось, когда вскоре после смерти Мао Цзэдуна началось масштабное направление китайских студентов на учебу за границу. Около половины (а периодически – до 70 %) студентов по завершении учебы не возвращалось обратно, но в отношении них, как правило, не возбуждались репрессивные процедуры, а их оставшиеся в Китае семьи не подвергались наказанию, даже если учеба осуществлялась за государственный счет.
Такой подход не только отражал жизненный опыт и традиции народа, длительное время жившего в условиях жестокого перенаселения и, соответственно, вынужденной массовой эмиграции. Представляется, что он был по-китайски прагматичным, нацеленным на создание высокообразованного и потому влиятельного китайского лобби за границей.
Однако не менее важным видится и выражение в этом необычном для нас явлении этнической солидарности: китайцы-руководители просто не хотели карать представителей своего народа без крайней необходимости. Вероятно, сыграла свою роль и усталость от жестокостей времен Мао Цзэдуна, включая не только «культурную революцию», но и чудовищный, изнурительный длительный голод, в который была искусственно погружена значительная часть страны.[21]
* * *По мере успешного развития китайской экономики, повышения благосостояния и благополучия населения вполне естественно росло и самосознание китайского общества. Соответственно, менялось и восприятие китайским государством его роли и значения для китайского народа.
Революционной была, безусловно, формула «одна страна – две системы», введенная Дэн Сяопином в начале 80-х годов, еще в самом начале преобразования Китая и знаменовавшая собой переход от узкоклассового к широкому культурному, цивилизационному подходу.
Конечно, она целиком и полностью была сугубо утилитарной, нацеленной на обеспечение конкретных нужд хозяйственного развития. Ведь на первом этапе реформы развитие Китая осуществлялось за счет капиталов хуацяо, и Тайвань, Гонконг, Аомынь (Макао) и другие анклавы играли роль воронок, через которые иссохшая почва китайской экономики орошалась бурными потоками зарубежного китайского капитала, политкорректно именуемого «иностранными инвестициями».
Но все великие преобразования, отвечавшие историческим потребностям, именно в силу этого были во многом вынужденными. Чтобы общество поддержало перемены (а иначе случается, как с Улугбеком, Павлом I, Людвигом Баварским и бесчисленным множеством других опередивших свое время реформаторов и фантазеров, пусть даже и стремившихся к лучшему), оно должно ощущать их своевременность, их полезность: преобразования только тогда будут и возможны, и полезны, когда они вызрели в ходе естественного общественного развития, когда они соответствуют назревшим потребностям.
А потребности эти обычно бывают самого «низменного», материалистического свойства и связаны с текущими повседневными нуждами: иначе общество просто не примет неизбежно пугающего его риска нового и отвергнет даже самые разумные и привлекательные реформы.
Провозглашая лозунг «одна страна – две системы», китайское руководство вряд ли глубоко размышляло о том, что отказывается тем самым от парадигмы классовой борьбы в пользу логики цивилизационного развития и участия в глобальной конкуренции на основе культурной общности.[22] Оно решало узко практическую задачу: переход к модернизации Китая на качественно новой для него, рыночной основе при сохранении «руководящей и направляющей» роли коммунистической партии.
Однако условия решения задачи оказались таковы, что пришлось от развития «в интересах рабочих и крестьян» (а на деле – в интересах партхозноменклатуры) перейти к развитию в интересах всего народа вне зависимости не только от классовой принадлежности тех или иных его элементов (что и саму коммунистическую партию привело в конечном итоге к перерождению[23] в партию всего народа), но и от границ, разделяющих этот народ в каждый отдельно взятый момент.
Так китайское государство, – из сугубо прагматических соображений, что очень по-китайски, – сделало неизбежным расставание со своим сектантским, классовым, идеологизированным обликом в пользу превращения в традиционное государство, преследующее интересы создавшего его народа.
Формальным образом этот процесс был зафиксирован в 2000 году, когда на стандартной визе, ставящейся в паспорта посещающих Китай граждан иных государств, вместо традиционной фразы «виза Китайской Народной Республики» стали писать просто: «китайская виза».
Это выразило завершение трансформации самосознания самого китайского государства, всей китайской бюрократии: с 2000 года она уже окончательно служит не «континентальному» и тем более не «красному» Китаю, а государству всех китайцев, где бы они ни находились, выражающему и защищающему их интересы на не столько политико-административной, сколько на этнической основе.
Революция сознания заняла, таким образом, почти два десятилетия, – и была не просто открытой: она была оформлена и закреплена так, чтобы быть понятной и очевидной для всего мира.
Для того, чтобы понять степень адекватности традиционного европейского сознания и уровень нашего понимания Китая следует добавить, что мир, в то время уже буквально не спускавший с Китая глаз и считавший его возвышение главным событием XXI века, этого формального завершения исключительно важной, ментальной революции вообще не заметил.
Никак.
Словно его не было.
Дерсу Узала говорил «глаза есть – посмотри нету», – но он говорил это про дикую природу, часто недоступную пониманию и восприятию горожанина.
Увы: приходится сознавать, что для этого горожанина весьма часто точно так же недоступно восприятию (включая восприятие профессиональных аналитиков) содержание пометок в его собственном паспорте.
А ведь революция эта, – в силу того, что китайские диаспоры есть почти во всех странах мира и, как правило, неуклонно расширяются и крепнут, – непосредственно касается в прямом смысле слова всех народов и всех государств современности.
Ведь один из лозунгов для внутреннего употребления – из тех, что редко и далеко не всегда охотно переводят иностранцам, даже если те настойчиво просят сопровождающих, – «китайцы ни в одной стране мира никогда не будут этническим меньшинством!»
Его популярность и распространенность в китайском обществе стала такой, что в начале 2010-х годов он зазвучал, наконец, и с высших партийных и государственных трибун.
Китай – это государство всех китайцев.
Его громада, влияние и энергия стоит за каждым из них, где бы и в каком бы плачевном виде он сегодня ни находился.
И забывать это – значит обрекать себя на весьма существенные, неожиданные, излишние, но в данном случае целиком и полностью заслуженные неприятности.
* * *С конце 90-х в силу роста коммерциализации в Китае (сначала в туристических районах, а с середины 2000-х и в остальных[24]) появилось невиданное до того[25] явление – обман иностранных туристов. Проявлялось это обычно, конечно, не в привычных для наших рынков (особенно с гостями из Закавказья) прямом обсчете и обвесе покупателя, но в завышении цены (даже после ожесточенного и по-китайски изматывающего торга) и, особенно, пересортице, позволяющей торговцу «в случае чего» объяснить подсовывание более дешевого товара простым недопониманием или, на худой конец, непредумышленной ошибкой. (Надо отметить, что при всей изощренности своих навыков китайские торговцы крайне неохотно идут на прямой обман, предпочитая добиваться согласия покупателя на заведомо невыгодные для него условия; вероятно, это связано не только с культурными и профессиональными традициями, но и со страхом перед правоохранительными органами и боязнью лишиться «чистой» работы продавца.)