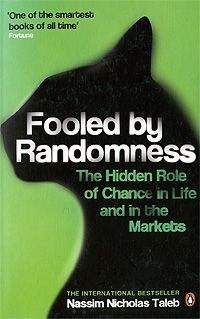Ознакомительная версия.
Даже их названия звучали ностальгически. Я наполнил коробку французскими изданиями, такими как вышедшая в 1949 году "Материя и память" Анри Бергсона, — ее Мандельброт, похоже, купил, еще будучи студентом (ах, этот запах!).
После того как я множество раз упоминал Мандельброта, я наконец-то представлю его. Прежде всего — как первого человека с ученой степенью, с которым я когда-либо говорил о случайности, не чувствуя, что меня обманывают. Другие математики, специализирующиеся на вероятностях, швыряли в меня "винеровской мерой" и какими-то теоремами с русскими названиями типа теоремы Соболева или теоремы Колмогорова, без которых они как без рук. Им никак не удавалось ухватить суть предмета или хотя бы высунуться из своей маленькой скорлупки, чтобы увидеть со стороны ее эмпирические изъяны. С Мандельбротом все было не так: казалось, что мы были рождены в одной стране, встретились после многих горьких лет изгнания и наконец-то можем свободно поговорить на родном языке. Он — единственный учитель из
плоти и крови, который у меня был; главные мои учителя — это книги в моей библиотеке. Я слишком мало уважал математиков, занимающихся неопределенностью и статистикой, чтобы считать кого-то из них своим учителем. По моим представлениям, математики, натасканные на определенность, не должны совать нос в случайность. Мандельброт показал, что я не прав.
У него необычайно чистый и правильный французский язык, совсем как у поколения моих родителей в Леванте или у аристократов Старого Света. Поэтому, когда мне случалось слышать его не лишенный акцента, но совершенно стандартный американский английский, я каждый раз удивлялся. Он высок, у него лишний вес, отчего его лицо кажется младенческим (хотя я никогда не видел, чтобы он много ел), и его присутствие физически ощутимо.
Может показаться, что объединяющие нас с Мандельбро-том предметы — это из ряда вон выходящая неопределенность, Черные лебеди и скучные (иногда не слишком скучные) статистические понятия. Но, хотя мы и сотрудничаем в этих сферах, это не то, вокруг чего обычно крутятся наши разговоры: в основном мы обсуждаем литературные и эстетические материи или вспоминаем исторические байки о людях блестящего ума. Я имею в виду именно блестящий ум, а не ученость. Мандельброт может много чего порассказать о феноменальной когорте деятелей науки, с которыми ему доводилось работать на протяжении прошлого века, но так уж я устроен, что мне гораздо менее любопытны личности ученых, чем колоритных эрудитов. Подобно мне, Мандельброт интересуется просвещенными индивидуумами, в которых сочетается то, что считается несочетаемым. Среди его любимых персонажей — барон Пьер Жан де Менаш, с которым он познакомился в Принстоне в 1950-е годы, где тот делил ком
нату с физиком Оппенгеймером. Де Менаш был в точности тем, что меня особенно занимает, — воплощением Черного лебедя. Он происходил из состоятельной купеческой семьи александрийских евреев, говорившей по-французски и по-итальянски, как все культурные левантинцы. Его предки переделали свою арабскую фамилию на венецианский манер (Menasce), добавили к ней походя венгерский аристократический титул и вращались среди особ королевской крови. Де Менаш не только обратился в христианство, но стал священником-доминиканцем и крупным исследователем семитских и персидского языков. Мандельброт все время расспрашивал меня об Александрии, поскольку неустанно искал таких уникумов.
Да и я, честно сказать, искал в жизни именно их — обладателей незаурядного интеллекта. Мой эрудированный и разносторонний отец (который, оставайся он в живых, был бы всего на две недели старше Бенуа М.) любил общество чрезвычайно культурных монахов-иезуитов. Я помню, как они, приходя, занимали мое место за обеденным столом. Один из них был "остепененным" медиком и физиком, но при этом преподавал арамейский язык местным студентам в Бейрутском институте восточных языков. Его прежним послушанием вполне могло быть преподавание физики в высшей школе, а еще раньше — чтение лекций на медицинском факультете. Эрудиция такого рода производила на моего отца куда большее впечатление, чем конвейерная научная работа. Может, у меня врожденная неприязнь к bildung-sphilisters.
Хотя Мандельброт часто восхищался темпераментом эрудитов высокого полета и замечательных, но не очень известных ученых, вроде его старого друга Карлтона Гайдузека, человека, сумевшего докопаться до причин некоторых тропи
ческих болезней, о своих связях с теми, кого принято считать великими, он не склонен был распространяться. Я далеко не сразу узнал, что он сотрудничал с огромным количеством ученых чуть ли не всех специальностей — о чем любой другой твердил бы с утра и до ночи. Хотя я уже несколько лет тесно знаком с ним, только на днях, беседуя с его женой, я выяснил, что он два года ассистировал как математик психологу Жану Пиаже. Еще одно потрясение я испытал, когда узнал, что он работал и с великим историком Фернаном Броделем. Но Мандельброт, казалось, был безразличен к Броделю. Его не тянуло поболтать о Джоне фон Неймане, под чьим началом он проходил стажировку. Его иерархия была перевернутой. Однажды я спросил Мандельброта о встреченном мною на вечеринке Чарльзе Трессере, безвестном физике, писавшем статьи по теории хаоса и пополнявшем свой заработок исследователя выручкой от продажи пирожных собственного изготовления. "Un homme extraordinaire!"* — вскричал Мандельброт и рассыпался в похвалах Трессеру. Но когда я спросил его об одном научном корифее, он ответил: "Типичный bon eleve, прилежный студент без глубины и без полета". Корифей был нобелевским лауреатом.
ПЛАТОНИЗМ ТРЕУГОЛЬНИКОВ
Теперь о том, почему я называю это дело мандельбротовской, или фрактальной, случайностью. Каждый отдельный кусочек и деталь головоломки уже упоминались кем-нибудь раньше, скажем, Парето, Юлом и Ципфом, но именно Мандельброт а) соединил точки, б) связал случайность с геометрией (при-
* Необыкновенный человек (фр.).
чем с ее определенной областью) и в) придал предмету естественную завершенность. По правде говоря, многие математики знамениты сегодня отчасти потому, что он использовал их работы, чтобы подвести фундамент под собственные построения, — как делаю и я в этой книге. "Мне пришлось придумать себе предшественников, чтобы люди относились ко мне серьезно", — сказал он мне однажды, так что его ссылки на мнение авторитетов — всего лишь риторический прием. Почти всегда можно раскопать тех, кто уже высказывал данную мысль, и опереться на их вклад. Олицетворением большой идеи, носителем "брэндового имени" становится в науке тот, кто соединяет точки, а не тот, кто случайно сделал наблюдение. Даже Чарльз Дарвин, который, как утверждают невежды от науки, "придумал" выживание наиболее приспособленных, заговорил об этом не первым. Он написал во введении к "Происхождению видов", что излагаемые им факты не всегда новы; но его выводы, как ему кажется, "представляют интерес" (такова его по-викториански скромная формулировка). В конечном счете известность приобретают те, кто делает выводы и улавливает важность идей, видя их реальную ценность. Именно они способны развить тему.
Ознакомительная версия.