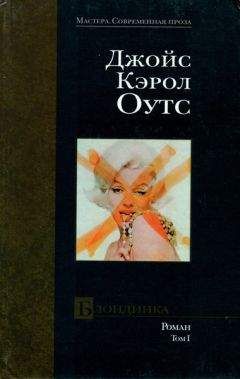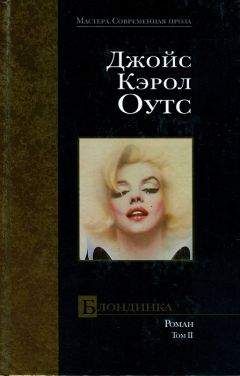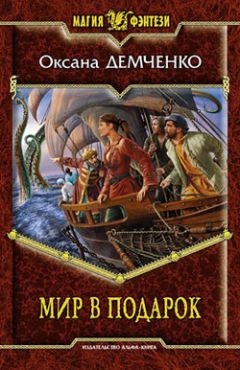Ознакомительная версия.
Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя!
Я в струе степного ключа вижу блеск невской струи…
Если мимо своих высот взором старческим я скользну –
Синеву твоих вижу вод, зорь Балтийских голубизну…
Прошло уже столько десятилетий, а я не могу их вспоминать без слез. Сразу перед глазами встает эта картина – люди голодные, замерзшие, чуть живые, плачут и улыбаются, верят, что они не одни, их помнят, любят, им сочувствуют всей душой, их стойкостью гордятся.
Пожалуй, это одно из моих самых сильных военных впечатлений. Вероятно поэтому, когда уже в постсовеское время наш импозантный, демократичный, чужеродный губернатор Собчак переименовал город – восстановив, так называемую, историческую справедливость, я это восприняла как плевок в лицо блокадникам-ленинградцам. Самое печальное то, что происходил референдум, и такое решение поддержало большинство жителей. Хочется верить, что это был подлог, или, увы, в городе уже на то время в живых осталось мало блокадников, а оставшиеся старики не смогли донести молодому поколению, что значило для самой жизни ленинградцев это название, кстати, намного более звучное, красивое и гармоничное для русского уха, чем звучащий по- немецки «Санкт-Петербург».
Ужасная зима длилась долго. Старожилы уверяют, что такой холодной зимы в наших краях никогда не было. Днем стояла ясная, солнечная безоблачная погода, самая подходящая для вражеской бомбардировки. «Почему наши зенитчики так часто пропускают немецкие самолеты?» – спрашивала я у бабушки. Кстати, уже весной мы с бабушкой оказались на Марсовом поле, таком безлюдном, огромном, каком-то взъерошенном, и там я видела зенитный расчет – несколько молодых девушек, одна сидела на специальном металлическом стульчике, на что- то там нажимала, длинное дуло небольшой пушки, устремленное в небо, поворачивалось вместе со стульчиком, а другие девушки подавали снаряды. Меня это не впечатлило, показалось чем-то не очень серьезным. Какая -то маленькая зенитка (или пулемет) на таком огромном пустынном поле. Разве может одна тоненькая зенитка обезопасить такое огромное воздушное пространство? Девушки-зенитчицы выглядели совсем беззащитными, мне было за них как-то страшно…
Все- таки как неоднозначна судьба – с одно стороны суровая зима погубила немало ленинградцев, но скольких она спасла… Только благодаря такой постоянной холодной погоде могла работать Ладожская дорога жизни. Ведь ее без конца обстреливали, взрывали, и тем не менее она работала, по ней шел хлеб, двигались машины с эвакуированными, по карточкам хоть мало, но что-то давали. Между прочим, шофером на ней работал и дядя Ваня, муж тети Дуси. Потом, уже в мирное время, он мало, что рассказывал, помню только, он говорил, что весь путь по Ладоге обычно ехал при открытых дверях машины, часто на подножке, чтобы было легче соскочить с машины при попадании снаряда… Мне кажется, лучше всего о дороге жизни сказано в четверостишье Ольги Бергольц, выбитом на одном из памятников:
Дорогой жизни шел к нам хлеб
Дорогой дружбы многих к многим.
Еще не знали на Земле
Страшней и радостней дороги…
Тем не менее наша с бабушкой блокадная жизнь потихоньку текла. Мы уже привыкли к звукам сирены, не спешили в бомбоубежище. Когда объявляли тревогу, бабушка брала с собой небольшой тряпочный мешочек, в котором у нее лежали продуктовые карточки, документы и драгоценности, и мы спускались с нашего третьего этажа на второй этаж, где жила семья наших знакомых – профессора Розенфельда. Почему бабушка так делала, я не знаю, мне даже тогда казалось, что от бомбы этот маневр вряд ли мог нас спасти.
Также, как и в нашей квартире, у них было темно – светомаскировка, но, по-моему, теплее. Однажды, когда мы там были, к бабушке пришел какой-то молодой мужчина, очень приятный. Он сказал, что вместе с дедушкой работает в госпитале, дедушка передает нам привет, очень о нас скучает. Бабушка расспрашивала его, как дедушка поживает. Дядя был очень хороший, он меня качал на ноге, сетовал, что мы живем в таком нехорошем районе, где так часто бывают бомбардировки и обстрелы, он постарается нас перевести в другой более спокойный район. Нам с бабушкой он очень понравился. Бабушка вышла его провожать в переднюю, где горел только один ночничок.
Когда по радио объявили отбой воздушной тревоги, мы стали собираться домой наверх. Обнаружилось, что бабушкиного мешочка нет. Уже после войны я слышала, как дедушка уверял, что он никого к нам с визитом не посылал. Но тогда, в начале месяца, потеря продуктовых карточек была трагична – ведь восстановить их было невозможно. Представляю, каково было бабушке. Главное, продать или обменять на еду было нечего. Тем не менее бабушка пошла на расположенный близко от нашего дома Мальцевский рынок, сняла с пальца обручальное кольцо и обменяла его на буханку хлеба и запечатанную банку с повидлом. К сожалению, это оказалось совсем не повидло, так что обмен был не очень выгодный, но, тем не менее, мы дотянули до следующего месяца, а там нам выдали новые карточки.
Еще один запомнившийся эпизод. Уже весна. Мы не спускаемся по тревоге ни в бомбоубежище, ни к Розенфельдам, а лежим вместе в кровати под одеялом. Ничего не хочется делать, под одеялом тепло и уже даже есть не хочется. Бабушка мне читает стихи. У нее была великолепная память, мне кажется, она всю классику знала наизусть, кроме того, очень многие не звучащие по радио русские народные песни и хороводные игры – вот что значит образование в Смольном институте (бабушка закончила институт с медалью, второй по успеваемости в выпуске, у нее даже была подписанная императрицей Марией Федоровной, патронессой этого заведения, похвальная грамота, я сама ее видела, но, к сожалению, не сберегла).
У меня были любимые произведения, и я просила бабушку читать их снова и снова. Мне очень нравились баллады Жуковского, особенно страшные, как про епископа Гатона:
Было и лето и осень дождливы,
Были затоплены пажити, нивы.
Хлеб на полях не созрел и пропал.
Начался голод, народ умирал.
А дальше про то, как жадный епископ не захотел делиться своими запасами, на него напали крысы, он от них прятался в каменном замке, но крысы прогрызли камень и съели Гатона.
Или его перевод Шиллера:
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь издрогнув, малютка приник,
Обняв его, держит и греет старик.
Кстати, очень красивая баллада. Я бы на месте мальчика не боялась бы, а ушла к лесному царю в слитые из золота чертоги, где струятся жемчужные струи и играют его прелестные дочери.
Еще на меня большое впечатление производила баллада, по-моему, Пушкина:
Три дня купеческая дочь Наташа пропадала,
А на четвертый день домой она без памяти бежала.
С расспросами отец и мать к Наташе с тали приставать.
Наташа их не слышит, молчит и еле дышит.
Это про разбойников. А еще его же стихотворение «Прибежали в избу дети, второпях зовут отца: тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца….». Страшное, но интересное.
Но самыми любимыми было два коротких стихотворения – одно Лермонтова, другое – не знаю, чье. Пишу их по памяти, наверное, что-то перевираю, не помню, чтобы я их сама когда-то перечитывала в напечатанном виде.
Когда волнуется желтеющая нива,
И светлый лес дрожит при звуке ветерка,
И прячется в тени малиновая слива
Под тенью трепетной зеленого листа.
Веселый ключ стремится по оврагу,
И навевая в душу мне какой-то сладкий сон,
Лепечет он таинственную сагу
О тех краях, откуда мчится он.
Тогда смиряются души моей порывы,
Тогда расходятся морщины на челе.
И радость я могу постигнуть на Земле,
И в небесах я вижу Бога.
Ничего себе, стихотворение, интересное для пятилетнего ребенка! Но мне оно казалось очень вкусным, в нем были такие чудесные слова, как малиновая слива и саго.
А второе стихотворение было просто красивое, от него веяло какай-то русской патриархальной стариной:
Ознакомительная версия.