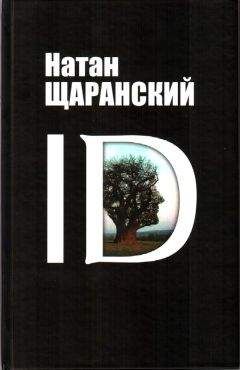Большое внимание в пособии уделено национальному вопросу, что также можно считать его позитивной отличительной чертой. Как показывают события последних лет, в такой стране, как Российская Федерация, правильное понимание национальной проблематики необходимо формировать с самого юного возраста. На протяжении всего XX века национальная политика как царских, так и советских властей не отличалась последовательностью, верные решения перемежались чередой тактических и стратегических промахов. Недочеты национальной политики, в частности, серьезно ослабили живучесть государственного организма в период горбачевской перестройки, серьезно облегчили процесс разрушения страны. Далеко не все делалось правильно и в постсоветские времена. Начавшаяся с 2000 года политика преодоления прежних ошибок еще не может считаться полностью исчерпавшей свои задачи. И здесь формирование общественного мнения становится одной из задач исторического образования.
Появившуюся книжную новинку от прочих аналогичных изданий выгодно отличает обстоятельный разговор о векторе развития России в XXI веке, реформаторской деятельности Владимира Путина и команды его единомышленников. Не секрет, что в учебном процессе этот исторический период отражен еще недостаточно полно, так что появившаяся книга станет важным подспорьем для всех интересующихся нашей новейшей историей.
В ней события последних лет не отторгаются от прошлого, а подаются в общем контексте судеб нашей страны. Непрерывность отечественной истории, возможно, — самый важный урок, который сегодня следует усвоить.
(Автор: Дмитрий Чураков)
Анатомия Смуты. Русская история как экзистенциальная драма
В 90-е годы любимым рефреном наших патриотов было: всякие времена переживала Россия, но таких подлых еще не бывало. На самом деле всевозможные подлые времена сменяли друг друга в нашей истории с завидной регулярностью (что, конечно, есть факт не только нашей, но и вообще мировой истории). Если и был в смуте 90-х феномен, то разве что восходящий к ноумену неоплатоников (как образ к первообразу). Истории (пусть на новом витке и в новом качестве) свойственно повторяться. Так и смута 90-х, наступившая за очередной тоталитарной «подморозкой», стала лишь очередным витком русской трагедии — витком, подобным сметающей монархию Романовых смуте революционной или сменяющей деспотию Грозного великой Смуте.
Но, пожалуй, еще интереснее усмотреть эти аналогии в истории возвышения Москвы.
В разное время высказывались разные предположения относительно того, как мог захолустный удел младших братьев стать центром Руси. Говорили, что Москва находилась на пересечении торговых путей, в «центре» земли. Евразиец Лев Гумилев считал, что своим космополитизмом Москва привлекла русских пассионариев — тех, кто «хотел иметь общественное положение сообразно заслугам». Но всех этих объяснений еще явно недостаточно. На пересечении торговых путей находились и Углич с Костромой. А героическая Тверь, центр русского сопротивления Орде, и Смоленск, защитник западных рубежей страны, и древний Владимир, и свободный, независимый Новгород имели больше прав стать столицей Руси, нежели Москва. Да и откуда бы взялся в ней этот космополитизм?
И видимо, всеобъемлющей причиной придется признать одну-единственную: мимо этого придорожного, затерянного в северных лесах городка (скорее, обнесенного частоколом постоялого двора) лежал путь в Орду. Его и облюбовали приезжавшие за данью ханские баскаки. Здесь они останавливались и пировали, перед тем как разъехаться по русским городам, а потом, отяжелевшие поборами, собирались вновь, чтобы вместе ехать назад в Орду. Так географическая реальность, скрестившись с геополитической, и породила полуазиатский торгово-криминальный феномен Москвы, а с ней и всю трагедию будущей русской истории.
Для политики и торговли место и впрямь оказалось идеальным, а младшие братья стали пытливыми и талантливыми учениками. Уже Иван Калита при поддержке ханов Узбека и Джанибека взял на себя все хлопоты по сбору «выхода» с русских уделов. Уничтожив руками ордынцев главного своего конкурента — Тверь, — Москва быстро пошла в рост. А уже вслед за богатствами, которые со всех концов Руси начали свозить к себе энергичные младшие братья, потянулись сюда и влекомые волей к власти и лучшей жизни пассионарии. Это были действительно новые, ультрасовременные для своего времени люди, воплощавшие апофеоз беспочвенности. Здесь, в Москве, никто не интересовался их происхождением, обычаем и нравом, здесь требовалось только одно — верность князю.
Так на новом витке своей истории Русь обретала новый центр. Как будто возвращалась героическая киевская эпоха, только оружием московского князя были уже не меч и честная сеча, а политическая интрига, его дружиной стала не вольная ватага удалых рубак, а скорее, разбойничья шайка, без совести обиравшая своих сородичей.
Кстати, в родившейся именно в это время легенде о граде Китеже современные исследователи (в том числе и евразиец Гумилев) склоны видеть именно москвичей. Писать прямо русские книжники, опасаясь репрессий, в то время уже боялись.
С началом развала Орды к своим бывшим данникам стали тысячами стекаться восточные друзья. Смешавшись с ближайшим окружением князя, они и положили начало новой элите.
Феномен Москвы знаменовал собой новый образ страны — союз Руси и Орды, что отразилось и в образах московских правителей: первый русский царь Иван Грозный — через род Глинских — прямой потомок Мамая. Воспитанник царской опричнины Годунов — также выходец из татарского рода.
Зачем мы все это вспоминаем? Да лишь затем, чтобы в исторических началах увидеть и наше бурное время: в истории придорожного трактира, превратившегося в столицу огромного государства, — историю ларечников-кооператоров, чудесно вырастающих в олигархов; в смене ордынского ига молодыми московскими нуворишами — энергичную комсу, сменяющую у кормила власти Центральный Комитет партии. Увидеть и государство, превращенное в полубандитский анклав, и терроризирующие население банды, и потоки гастарбайтеров (татар, идущих на службу в Москву), и всю вообще реальность нашего времени со странным постмодернистским образованием-мегаполисом в центре обескровленной новым игом (большевиками) и полуразрушенной новыми реформаторами (младшими братьями) страны.
Так бандитским беспределом начиналась Москва. Беспределом опричнины был ознаменован ее апофеоз в царствование Грозного. И время большевиков, начинавших свою карьеру с налетов на банки, логично заканчивалось бандитским беспределом 90-х…
Оправдание истории
Беря начало в татарском нашествии (даже раньше — в киевской вольнице: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет»), через всю историю Руси-России проходит образ Смуты: в мировой смуте (крушении Византии) зачиналась ее мессианская идея; великой Смутой завершалось наше Средневековье; в духовной смуте раскола рождалась петровская Россия; в смуте революционной — Россия Советская, а в смуте перестроечной, реформаторской — постсоветская.
Кажется, вся наша история есть лишь история сменяющих друг друга смут и тоталитарных «подморозок». Что же это за судьба такая? И почему, взглянув на Европу, мы видим совсем иное? Да, войны — ужасные и кровопролитные, но не то тотальное нашествие варваров и более чем двухвековое пленение. Да, террор инквизиции и гражданские войны, но не тот кошмарный «Страшный суд», устроенный Грозным в отдельно взятом государстве. Фашистский соблазн, но не семидесятилетний тоталитарный плен большевизма, капиталистический «мир контрастов», но не вакханалия вседозволенности… Есть отчего прийти в отчаяние и сказать, подобно Чаадаеву: мы — лишь печальный урок миру. Или: не будь России, мир только вздохнул бы с облегчением, как бросил однажды в сердцах Тургенев. Но тот же Тургенев из своего отчаяния и «тягостных раздумий о судьбах родины» утешение находил в великом, могучем, правдивом и свободном и признавал: «Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»
А Пушкин? Рублев? Достоевский, без которого вся современная европейская мысль просто немыслима? А Тарковский, перед которым снимают шляпу все кинематографисты мира? Видно, Россия и правда требует другой мысли и у нее «другая история», как заметил однажды Пушкин. Не в смысле «особого пути» и «автаркии», а в смысле другого угла зрения, что ли… Чем-то другим — молчаливым и грандиозным — дышит это «таинственное дитя провидения» (Томас Карлейль) рядом с динамичными народами Европы. И мерный ритм этих сменяющих друг друга катаклизмов — будто зачарованный сон сказочного великана — вдох-выдох, будто дышит за ними какой-то громадный смысл (умом не понять, аршином не измерить), потому что и мысль, и мера эта — выходящие за пределы только человеческого: Мои мысли — не ваши мысли…