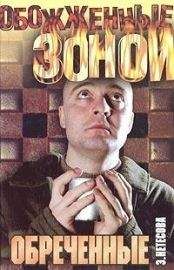— Вы что же, считаете нашу ссылку постоянным явлением? Почему позволяете себе методы, недопустимые в тюрьмах, зонах? Даже в Дахау постыдились бы выгонять на работу парализованного человека — женщину! Обзывать матом в присутствии ее детей! Да за такое вам знаете что полагается?
— Премия! — рассмеялся Волков.
— Я бы премировал! Будь моя воля! Ну, ничего. Закончится и мое. Но тогда смотри! За всякую мерзость спрошу сторицей. У меня память профессиональная! Это из-за таких вот все наши беды! Но дай выйти! Уж я высплюсь на твоей шкуре!
— А выйдешь ли? О том меня спросить надо! Ты кто нынче? Ссыльная вошь! А я — власть! Мне плевать, кем ты был до ссылки! Теперь ты до гроба — враг народа! Предатель и трус! И не хрен пасть драть! Захочу, языком мои сапоги вылижешь. Еще и спасибо мне скажешь, говно вонючее! — хохотал Волков, видя, как белеют скулы Пряхина.
— Чего дрожишь? Ну, стукни! На! — подставил щеку, — Ссышь, скотина? Знаешь, что будет с тобою и отродьем. Вот и заткнись! Не лезь не в свои дела! Не зли начальство! Иль жизнь тебя ничему не научила? — смеялся Волков. И, сплюнув под ноги Пряхина, пошел вразвалку к катеру. Не оглядываясь, не боясь получить в спину камнем.
Александра трясло. Он еле сдержал свою ярость. Знал, нельзя ему скатиться до уровня полускота. Уж если бить его, то не кулаком. Его физически не образумить. Ведь всякое тупое животное быстро забывает боль…
А Волков запомнил тот разговор с Пряхиным на берегу. И когда Елена вместе с другими бабами пришла определять в школу старшего сына, Волков отказал всем. А ей — особо ответил:
— Ваш муж — негодяй, — пусть научит свое отребье. Как из чекиста зэком стать. Как спасать свою шкуру на войне, сдаваясь в плен! Лишь бы выжить! Но я ему устрою житуху! Волкам позавидует! — пригрозил багровея.
Пряхины не знали, сколько раз обливал Волков Александра грязью в милиции и у чекистов. Намекая: дескать, пора бы принять меры, наказать, проучить, припугнуть. Но… Едва заглянув в документы Пряхина, никто не решался задевать его.
Знали, слышали, как бывает изменчива фортуна, умеющая в момент сделать генерала — зэком и наоборот.
— Боитесь ссыльного? А ведь он в моем лице власти оскорблял! Не мне, всей Камчатке грозил. Я уж сколько говорю о нем, а вы ни слова, собираетесь меры принять, иль мне в область обратиться, что бывшего чекиста, своего, покрываете?..
— Послушайте, Михаил Иванович! Мы реагировали на всякий ваш сигнал. И, случалось, перебирали… Но ведь и вам хорошо известен недавний случай в Тигиле. Там тоже ссыльный был. И председатель сельсовета, который возил его зимою в тундру почти нагишом, чтоб перевоспитать. Целый год издевался над мужиком. Тот уже сдавать стал. Как вдруг команда из центра — срочно доставить того ссыльного в Москву! Он академиком оказался. А через неделю Тигильского вождя к стенке поставили. Влепили в лоб девять граммов, даже объяснять не стали — за что. И всех сотрудников милиции под задницу из органов навсегда выкинули. Без выходных пособий. За то, что видели и не пресекли! Так вот нам не хочется на их месте оказаться! И тебе не советуем делить участь тигильского коллеги. Живи спокойно, — ответили Волкову в органах. Но тот никак не мог успокоиться. Его бесило собственное бессилие, сдержанность Пряхина, робость чекистов и милиции.
Шли недели, месяцы. С материка повеяло тревожным.
Вначале робкие слухи просочились, а потом обрушились на Камчатку половодьем событий известия о помилованиях, реабилитации, массовом пересмотре дел репрессированных.
Михаил Иванович теперь всем нутром вздрагивал. А что, как и Усолья коснутся перемены? Чего ждать ему? Ведь он тоже перевоспитывал… И о нем не смолчит кто-нибудь из ссыльных. И ему припомнят. Правда, не только ему, но какое дело до других? Ведь вот Пряхин если выскочит — сочтется угольками, — вздыхает Михаил Иванович и успокаивает себя тем, что всякие новшества доходят на Север не скоро. Годы нужны. А ему через три года на пенсию. Уедет на материк и с концами…
— Поцелуете меня в задницу! — утешает себя Михаил Иванович, но тревога не покидает его.
Пряхин тоже не забывал о Волкове. И в отличие от прочих ссыльных, не умел со временем забывать пакости. И никогда их не прощал.
Александр теперь ни во что не вмешивался. Но всегда все знал и слышал. Запоминал. Это настораживало и пугало Волкова. Но виду он не подавал.
В этот раз, как и всегда, Михаил Иванович приехал в Усолье с утра, чтобы на всю предстоящую неделю прочистить ссыльным мозги, напомнить, что над ними есть власть и хозяин.
Стоял сырой мартовский день. Серый и хмурый, как доля ссыльных.
Волков шумно ходил от дома к дому, заглянул на кухню, поговорил со стариками, с бабами. Проверил, как починены к путине сети. Сказал, какой план на корюшку будет дан Усолью. И пошел к берегу, собираясь вернуться в поселок. И тут увидел, что лед на реке тронулся.
Серые глыбы, вгрызались одна в другую, трещали так, словно где-то совсем рядом шла война.
Гонимые вешним течением горы льда шипели, ухали, оседая в воду, шли впритирку к берегу.
Волкову стало холодно.
— Как же домой вернуться теперь? — мелькнула мысль.
— Ни пешком, ни на санях, ни на катере не выбраться. А ледоход не меньше чем на неделю затянется. Пока весь лед из верховий не пройдет, ни одна лодка реку не проскочит. Что же делать мне? Где переждать? Кто пустит меня пожить эти дни? — лихорадочно перебирал в памяти всех ссыльных, каждую семью. Но нет… Тщетно. Не на что рассчитывать. Никто не примет, не согласится приютить меня, — растерялся Волков. И, оглянувшись, заметил, что на берегу, за его спиной не осталось ни одного ссыльного. Михал Иванович вернулся в Усолье. Нет, свободных домов здесь не оказалось. Землянки — и те сплошь забиты продуктами. К кому пойти? Куда деваться? О ночлеге загодя стоит позаботиться, и осмелившись, вернулся в столовую.
Антонина наотрез отказалась принять Волкова, сославшись на свое одиночество и боязнь сплетен, от которых и ему не поздоровится. Докажи, мол, потом всему селу, что у него ничего с хозяйкой не было. Кто в это поверит? Да и самим места в избе не хватает. Спят вповалку. Даже на полу. Гостя и вовсе приткнуть негде.
— Ну хотя бы в столовой, на кухне, — просился Волков.
— С этим — к Гусеву идите. Я в своем доме хозяйка. Здесь — община!
Никто из ссыльных не слышал его. Отворачивались. Даже смотреть не хотели в его сторону.
Гусев, услышав просьбу о ночлеге, ответил однозначно:
— К себе — не впущу!
Лидка, заслышав, что Волков в Усолье ночлег ищет, вывернулась из столовой и закричала во все горло:
— На погосте твое место, лишай паскудный! У нас тебя никто не впустит, не пригреет. Иль отшибло, сколь пакостев нам утворил? В каждом дому набедокурил, зараза! Теперь скулишь? Пшел отсель в жопу!
Михаил Иванович сел на берегу. Смотрел, как поднимается вода в реке. Понимал, не выжить, не выдержать ему без крова.
А и насильно впереться к кому-нибудь в дом не позволяла гордость. Ведь власть… Но к тому же знал: непрошенных, незваных гостей, усольцы умеют выкинуть не только из дома, но и из села. Не раз доводилось видеть такое.
Когда над берегом стали сгущаться сумерки, Волков пошел в столовую. Попросил у Антонины чаю. Та налила полную кружку, подала торопливо и тут же скрылась на кухне.
Волков решил не уходить из столовой и ночевать на сдвинутых скамейках. Отсюда его не выгонят. Можно бы и в мастерской на бухтах сетей. Но там холодно. А тут, чуть что, хотя бы чаем отпиться можно.
Ссыльные, придя на ужин, поняли, что вздумал Волков. Не стали выгонять. Смолчали. Будто и не видели его. А Волкову хотелось наорать, пригрозить, унизить всех. Но понимал, не та ситуация сложилась, не в его пользу… И ждал, когда усольцы освободят скамейки, чтоб можно было лечь и хоть немного от-, дохнуть.
Пряхин знал и видел все. Он не мог переносить вида Волкова. Вспоминался тот разговор на берегу. От которого кулаки горели и теперь.
На что был добрым отец Харитон. Он один из всех ссыльных, умел забывать обиды и прощать. Но и он, узнав о просьбе Волкова, отвернулся, словно и не слышал ничего.
Ушли из столовой ссыльные. Закрыла кухню на Замок Антонина. Рухнули надежды на чай. Волков сдвинул скамейки, взгромоздился на них, сунув под голову мокрую куртку.
Пряхин, вернувшись из столовой, заигрался с сыновьями и забыл о Волкове.
Мальчишки катались на спине отца, ползающего по полу на четвереньках, тузили в бока босыми пятками.
Сашка изображал коня. Дети визжали от восторга. Лена смеялась от души.
Наступала ночь. С приходом темноты ссыльные отпускали с цепи собак, чтоб смогли они до утра набегаться вволю, не подпустить к усольскому берегу чужих людей. Отпугнуть волков. А утром каждый пес надежно привязывался к конуре, либо сидел на цепи возле дома. Своих ссыльных, от старого до малого, в лицо и по запахам, могли узнать собаки даже в глухой ночи. Чужих — не признавали. Никого…