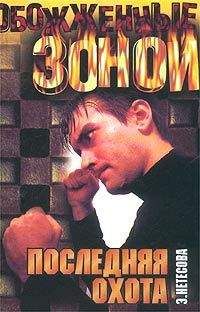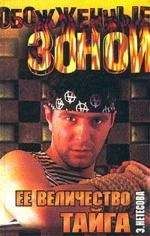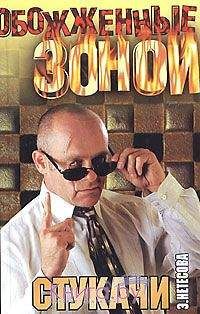Ели молча, не глядя друг на друга. Фартовые даже посуду перемыли за всеми без напоминаний. На работу собрались быстро, дружно. И в тайгу пошли впереди политических. Словно боясь, что охрана и сегодня повторит вчерашнее.
Старший охраны сделал вид, что не замечает законников. Но едва условники скрылись в лесу, направил к бригадам усиленную охрану: опасался, что блатные решат в тайге рассчитаться с мужиками за свое вчерашнее и прижать политических, сесть им на шею.
Трофимыч такое тоже предполагал. Но фартовые уже начали валить лес, не дожидаясь сучьих детей.
Даже Шмель без дела не стоял. Приметив усиленную охрану, смекнул все и взялся обрубать сучья с поваленных деревьев. Вначале неохотно, вразвалку, не торопясь, чтобы не вспотеть. А потом будто во вкус вошел. Может, забылся. Топор в его руках сначала чечетку заплясал, потом запел. И блатные, уже смешавшись с политическими, работали вровень, не отставая.
Первые полдня никто не обронил ни слова. Косились друг на друга. Присматривались, примерялись. А вернувшись на обед к палаткам, забылись, расслабились.
— Косой! Чего задумался, возьми добавку. Не то до вечера портки слетят с задницы! — предложил Санька.
Фартовый глазами поблагодарил. Сунул миску под полный половник.
Трофимыч поделился куревом с бугром. Илларион взял кружку чая из рук фартового.
Отдохнув десяток минут, переведя дух, лесорубы снова ушли в тайгу. До вечера работали без перекуров. Даже солнцу было жарко, глядя на людей. А они, с мокрыми спинами и плечами, торопились так, словно этот день был последним в неволе. И надо наверстать все упущенное.
Вечером, когда на тайгу олустились сумерки, возвращались к палаткам вместе.
За день снег осел, в тайге появилось много новых больших проталин. Заметно налились зеленью ветки деревьев, воздух прогрелся, потеплел.
Весна… Фартовые с тоской по сторонам оглядывались.
— Слинять бы, — вздыхали беспокойно, поглядывая на охрану. Политические еще один день из памяти вычеркивали: работа закончена, значит, прожит день. Все ближе к свободе.
Охранники дни считали. Скорее бы закончилась эта тягостная служба! Скорее домой, к своим. Впереди целая жизнь. Уж они, наслушавшись, не ошибутся, не оступятся. Чтобы самим под охрану не попасть.
— Ух-х-х! — внезапно грохнуло сбоку. И громадная сосна, подпиравшая кудлатой макушкой само небо, падавшая вначале беззвучно, грохнулась о землю.
— А-ай! — послышалось истошное. А может, показалось?
Люди кинулись к дереву. Испуганно обступили. В наступившей темноте ничего не видно.
— Здесь! Приподнимите! — закричал Илларион, нашарив под сосной мокрый комок.
Поднатужившись, подняли ствол. Вытащили законника, обогнавшего всех. К палаткам, к ужину спешил, к костру. А тайга над ним посмеялась. Ни поесть, ни отдохнуть не дала.
— Мать твою, Пескарь накрылся! — простонал Шмель, содрав с головы пидерку. Его примеру последовали остальные. Все без исключения. Фартовые и политические.
Перед смертью все равны. Понесли к палаткам молча. Был человек — и не стало. Еще не остыл топор от его ладоней, еще не унесло эхо звук его голоса, а смерть уже вырвала. Наказала строже судей, злей охраны, свирепее кентов.
Его принесли к костру. Тихо, бережно опустили на землю. С живым никогда так не обращались. Потому что был одним из многих. Смерть подняла его над всеми. Он отмучился, отстрадал.
Его больше не поднимут по команде охранники, не разбудят грязным матом кенты. Он уснул навсегда. И теперь лежит, разинув рот в немом крике. Кто-то закрыл ему глаза.
Шмель сел у изголовья покойного. Не до ужина, кусок в горло не лез. На душе — чернее ночи. Ведь вот даже имени человеческого, с которым на свет появляется всякий, никто не знал. Как помянуть его? Кенты сели вокруг Пескаря. Живого — его никто не замечал. Сколько раз трамбовали — выживал. А тут сосна отняла жизнь, не спросив согласия фартовых.
А что он видел в этой жизни? Сколько ему лет? Кто он и откуда? Имеются ли родные? И этого никто не знал.
У фартовых, пока живы, нет имен, семей и родственников. Нет и возраста. Они блатным ни к чему. Об их жизни можно узнать по наколкам, а они понятны лишь людям опытным, знающим законы «малин», зон, тюрем.
А биография нужна живым, мертвым она без нужды, лишний груз. Но старший охраны, заглянув в список, пошевелив губами, сказал глухо:
— Виктор он. Едва за сорок перевалило. А уже пятая судимость. И все разбой, грабежи… Ни семьи, ни дома, ни кола, ни двора. Вовсе впустую жил человек.
— Впустую? — побагровел Шмель. Встал неуклюже и закричал: — Впустую мусора живут. А Пескаря есть кому помянуть! И не только мы, его кенты! Но и средь фраеров найдутся. Детдомовец он, подкидыш потому что! Зато двоих, таких, как сам, бедолаг, в люди вывел. В грамоту. Для них воровал. Чтоб без отказу жили. Братами считал. По беде общей. Сам — в ходках. Они ни разу грев не прислали. Хотя его навар исправно харчили. А выучились, культурными заделались, забыли Пескаря. Здороваться стыдились, падлы. Хотя с его рук все имели. Да что теперь? Фраер — не человек. Может, в старости добром помянут. Но не будь Пескаря, они карманниками стали бы. Сколько мы лаяли его — без проку. Не по-фартовому жалостливым был. К чужим. Дурное у него сердце. Потому и помер непутево, не как законник. Хотя сам свою долю никогда не паскудил, — признал честно фартовый.
Политические тоже подошли. Сели плечом к плечу с фартовыми. Молча жалели человека, с кем совсем недавно работали вместе, не подозревая, что видят его последний день.
— Жаль. Молодой совсем…
— Нелепая смерть, как это все страшно, — зябко передернул плечами Костя.
— Теперь уж он всего отбоялся. Далеко он от нас, — опустил голову Шмель.
— Как знать, что лучше в этой жизни: умереть сегодня или дожить до завтра, — грустно сказал Илларион.
— Не кипишитесь на нас, мужики. Коль где мы облажались, все оботрется. Принюхались уже. Не стоит друг на друга хвосты поднимать. Нам делить неча. А выжить всем надо. Значит, помогать будем друг другу держаться на банке. Чтоб без задыху и гонора.
— Давно бы так-то, — крякнуло из-за плеча голосом охранника.
— Чтоб тебя! Я думал, моя задница ботать настропалилась! — подскочил от неожиданности бугор.
— Я те дам, гад, меня своей сракой обзывать! Погоняю еще с денек, забудешь, что она у тебя имелась когда-то, — не зло пригрозил старший охраны. И продолжил: — Ребят послал в село на мотоцикле, чтоб за покойным приехали. Пусть не думают, что кто-то убил человека, чтоб разговоров лишних не было. А и дли мертвого так лучше, чтоб путево все справили, как с Божьим созданием. И нам всем спокойнее будет, — сказал старший охраны.
— А я думал, в тайге, тут его похороним. На воле. Своими руками. Чтоб рядом был.
— Теперь ему все равно, — сказал кто-то из-за спин.
— А почему его Пескарем обозвали? — спросил Митрич, удивленно вылупившись на бугра.
— На то свой кайф имелся. И Пескарем его назвали за то, что от навара своего имел крохи, потому как большую долю отдавал тем — детдомовским кентам. А сам говно клевал, потому что его, идиота, не как всех людей сделали, а на пьяной козе скудахтали!
— Побойся Бога! Захлопнись, бугор, — возмутились фартовые.
— И вовсе не потому нашего кента Пескарем назвали. Не лепи темнуху, бугор. Ты Пескаря на воле не знал, не кентовал- ся с ним. Не паханил его «малиной». Только в ходке… А я с ним в делах фартовал. Клевые они были. Знаю его, как маму родную, — промолвил рябой, будто шилом бритый, законник. — Пескарем назвали его с Самого начала. Потому как в «малину» он пацаном прихилял. Совсем малец был. Зато и кликуха его такая. Средь воров-мужиков пацан Пескарем стал. Но дела большие проворачивал. На какие не всяк законник фаловался. Смелый был, никого ни разу не заложил. Хайло ни на кого не драл. Даже на сявок хвост не поднимал. За то все его лафовым знали. В делах не мокрушничал. За свою жизнь никого не расписал, не сильничал. Жил по фартовому закону, А что фраеров пригрел, то его дела. Тебе в них не соваться. Пескарь был настоящим, честным вором. Никого в наваре не обжал, чужое не хавал, на халяву не пил. И тех пацанов, своих кентов детдомовских, от «малин» сберег, не дал ворами стать. Ты сам кому кусок хлеба дарма дал? Муху без понта не накормил. А Пескаря паскудишь. Тебе до него срать и не досрать. Потому захлопнись.
— Чего ж меня бугром признал?
— От того, что сам я такой же, как и ты — говно, — признался фартовый.
— Хватит базлать! Не в своей хазе растрехались, — прервал блатных заросший густой щетиной медвежатник.
— Линза! Иди к огню ближе, совсем замерз, — позвал своего фартового напарника Тарас. И заговорил, обращаясь к своим, сучьим детям: — Этот мужик, вот чудо, ночью лучше, чем днем, видит все вокруг. Того зайца, помните, позавчера он поймал ночью. Это с перепугу у него. С нервов. Еще сызмальства. Мне б его глаза, я б не к ворам, я б нашел, как зарабатывать без риску! Он же все насквозь видит.