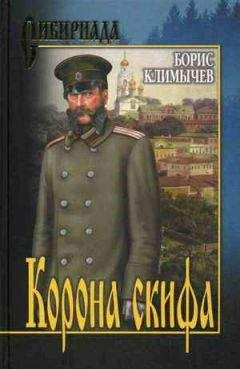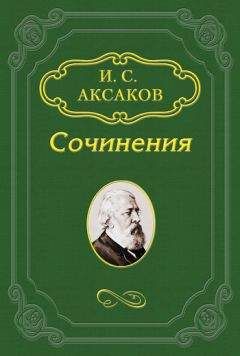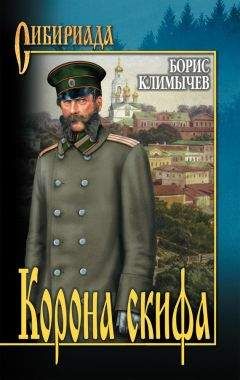Конюхи вывели оседланных монгольских лошадок, только на таких лошадках и можно ездить по тайге. Маленькие, но выносливые, привычные к таежному гнусу. У всадников к картузам была пришита смазанная дегтем кисея, спускавшаяся им на плечи. Это мало помогало. Оленев чувствовал, что мошкара забивает нос, попали мошки и в легкие, Оленева душил кашель.
— Пора бы обвыкнуть! — насмешливо говорил Карасев, — нежные вы, франты столичные, нас, тутошних, и мошка не ест, надоели мы ей, да и кожа задубела.
Казаки ехали привычно, словно срослись с лошадьми, пристально взглядывали по сторонам.
Где-то в глубине тайги вдруг раздался звериный, потрясающий вопль. Вылетев на прогалину, всадники, осадили лошадей. На поляне на острие сломленной осинки сидел мужичонка, из горла которого вырывались нечеловеческие звуки. Штаны мужичонки были спущены и залиты кровью, челдоны держали его за руки, давили ему на плечи, чтобы импровизированный кол вонзался всё глубже в нутро мужика.
— Прекратить! — крикнул Николай Николаевич.
— Как бы не так, — ответил один из деревенских, — этот бегляк нашу вершу с рыбой из речки вытянул. Ему бы сперва одну руку отпилить, потом другую, а уж потом на кол…
На коленях к всадникам подполз еще один приисковой мужик:
— Заарестуйте нас! Что хотите, делайте, только отберите у этих таежных иродов!
Возвращались, конвоируя шестерку рабочих, все они были привязаны к одной веревке. Один из них, поляк, говорил:
— Мы не рабы, вы сами не выполнили контракт, не платите и кормите гнилыми сухарями. Я буду жаловаться…
— Ты прежде сдохнешь от чахотки! — мрачно пообещал Карасев.
В ту же ночь загорелся дом управляющего. Все метались, кричали, было страшно. Николай Николаевич вместе со всеми стоял в цепочке, передавая ведра с водой, а мысли были о Верочке.
Дом выгорел дотла, Карасев отбыл в Томск, за полицией. Охранять арестованных рабочих должен был Николай Николаевич. Он отдал распоряжения казакам. Проверил самолично запоры на арестантской избушке. Вместиться туда могло от силы человек десять, а набили три десятка. Поляк кричал в зарешеченное окошечко:
— Кровосос! Душитель Польши! Бог покарает тебя!
Вернувшись поздно в свое жилище, Оленев хотел зажечь свечу, чтобы написать в Петербург прошение о помиловании. Но не нашел спички, и вдруг увидел, что окно превратилось в игральную карту, это была дама бубей. Он видел, что она подмигивает ему, это была Анелька.
— Вы не графиня Потоцкая, вы знаете кто?.. — обратился он к ней, но Анелька исчезла, а в раме возникла трефовая королева, и это была его покойная жена:
— Ты должен пойти со мной, ты стал шестеркой, а должен быть королем, ты же сам это понимаешь…
Он встал, недоуменно оглядываясь, часы в гостиной пробили двенадцать. Он вышел в залу, во всех окнах было темно, но откуда-то проливался мертвенный свет, вроде лунного, и он смог различить, что в каждом окошке с топориками на плечах поместились червонные валеты.
Он шагнул к двери, но и там стоял валет с топориком. "Нет, не уйти! " — подумал Николай Николаевич. Он вернулся в кабинет, лег на диване, укрылся пледом. Его била противная дрожь и страх гнал сердце вскачь, казалось, оно сейчас лопнет, и это было невыносимо. Скорее бы утро — молил он бога.
Но он не дождался рассвета. Ему было душно. Встал потихоньку, накинул шинель, вышел, побрел по темному поселку.
И утро настало. Мадам Ронне, постучала в спаленку своей воспитанницы и запела вполголоса французскую песенку, про петушка, который раньше всех приветствует солнце.
Верочка потягивалась в постели и говорила:
— Ах, мадам! Всегда вы так. Только приснится что-нибудь приятное…
— А что именно приятное было во сне моей малышке?
— Не скажу, секрет! — надула губки еще не совсем отошедшая от сна
Верочка.
В это время с улицы вбежал мужик, Федор, беглый солдат:
— Николай Николаевич застрелен!
Мадам Ронне стукнула его кулачком в грудь:
— Ты почему ораль, негодяйный мушик?
Она хотела сказать, что эта скотина, могла бы и догадаться, что нельзя такое — при дитяти. Да еще правда ли? О, варварская страна!
Вытолкав мужика из гостиной, мадам спросила хрипло:
— Правда есть? Где это есть?
— Чего же я врать буду? — обиделся мужик, — зачем-то ночью по поселку бродил. А арестанты проклятые подкопали избу вылезли. Полячишко Николая Николаевича из ружья застрелил, выследил… Убег полячишко в тайгу, за ним теперь гоняются…
В сенях пахло летом, в остатках сена запутались кровавые гроздья рябины.
И сюда принесли тело Николая Николаевича. Сесилька прислонила к его губам зеркальце и — зарыдала.
В сени выбежала Верочка. Мадам вскочила, закрыла ей личико своим подолом.
— Уходить! Не смотри!
Мадам в волнении путала русские и французские слова.
Вера не плакала, может, еще не охватила своим детским умом случившееся.
Отца она любила, как всякая дочь, встречая проявления отцовской любви, она неосознанно тренировала себя для встречи с мужским началом. Она чувствовала приливы нежности, когда отец обнимал её. Она была его частью, так она чувствовала. А теперь? Нет матери и не стало отца…
Но солнце вскоре высушило слезы в её чистых глазах. Теперь она — почти самостоятельный человек. И впереди — жизнь. Это немножко облегчало тяжесть свалившегося на неё горя.
Нет ничего благостнее и прекраснее на свете, чем весна в старинной столице Сибири. Там, где бывает так длинна и так сурова зима, оживление природы воспринимается с особенным чувством.
Со всех семи её холмов к полноводной Томи и к речке Ушайке устремляются тысячи талых ручьев. Всё ярче пригревает солнце, и в его лучах играют бликами купола церквей в самых высоких точках города. И подсыхают глинистые проплешины на склонах гор, и среди этих проталин вспыхивают вдруг голубые и желто-зеленые, подернутые пушком бутоны кандыков, или подснежников, как их тут называют. А потом возле реки, напоенные снеготоками, зацветают вербы, а шишечки их, если взять в рот, слаще меда. И солнце играет, и колокола звонят, и сладким предчувствием счастья захлебываются сердца молодых, и светлеют лица стариков, доживших до очередной весны, и любо им смотреть на божий мир, который никогда не стареет, а обновляется, что ни год.
Позади сорок холодных утренников. На Матрену щука хвостом пробила лёд, и поплыл он из Томи в Ушайку. А молодежь — тут, как тут! Зажигают вечерами на льдинах костры, и отталкивают их от берега. И плывут в ночи яркие огни через весь город. Дальше — в неизвестность. И целуют парни губы подруг, горькие и сладкие от вербных шишечек.
Удивляются парни тому, как радостно восторгается тело. Кто же придумал для них мир, такой чудный!
В весну 1864-го в старинном Томске радовались не все жители. Так уж устроена жизнь, что одним чего-то передали, другим — недодали. Говорят — за грехи родителей, за неправедную жизнь. Но кто знает истину?
Миша Зацкой, тонкий, синеглазый юноша с длинными черными ресницами и сросшимися у переносицы бровями, ходил по берегу Ушайки, сторонясь шумных компаний, и вздыхал.
В детстве ему казалось, что впереди его ждет блестящая карьера. Сын опального сосланного в Томск дворянина, Миша готовился взять реванш. Только окончить гимназию и поступить в Петербурге в университет. Он докажет, чего стоят Зацкие!
Но несколько лет назад выяснилось, что отец Михаила, вложивший все деньги в акционерное общество — банкрот! Черт попутал старшего Зацкого, и он связался с Философом Гороховым.
Кто не знал в Томске Философа Горохова?! Он выгодно женился на дочери золотопромышленника Филимонова, бросил свою прокурорскую службу, построил себе дворец с зеркальными окнами, и разбил вокруг этого дворца фантастический парк, который ему обошелся в двести пятьдесят тысяч рублей.
Были в этом парке и реки, и озера, арки и гроты с лабиринтами, и мостики, и ротонды.
Иная беседка была оформлена в греческом стиле. Другая как бы переносила вас в Китай. Поражали, доставленные из Поднебесной, мебель и ширмы с драконами, кланяющиеся болванчики,
По стенам были развешены шелковые китайские халаты, а на полу постелены китайские ковры. Сами потолки в китайском павильоне и стены были отделаны перламутром и по ним резвились драконы.
Были беседки прозванные Убежищем уединения, был на островке хрустальный павильон, сиречь — масонский храм Капитолийской Венеры, там полагалось уединяться для любовных утех. К "Острову любви" вел мост, украшенный скульптурами крылатых львов.
В оранжереях сада выращивали апельсины и бананы.
Сам дворец был тоже полон дорогостоящих причуд. У входа в него вас встречали узкоглазые медные тигры. В прихожей стены были отделаны серебром и золотом, и в лазурных облаках резвились кучерявые купидоны, крылатые кони, и самые непонятные чудища.