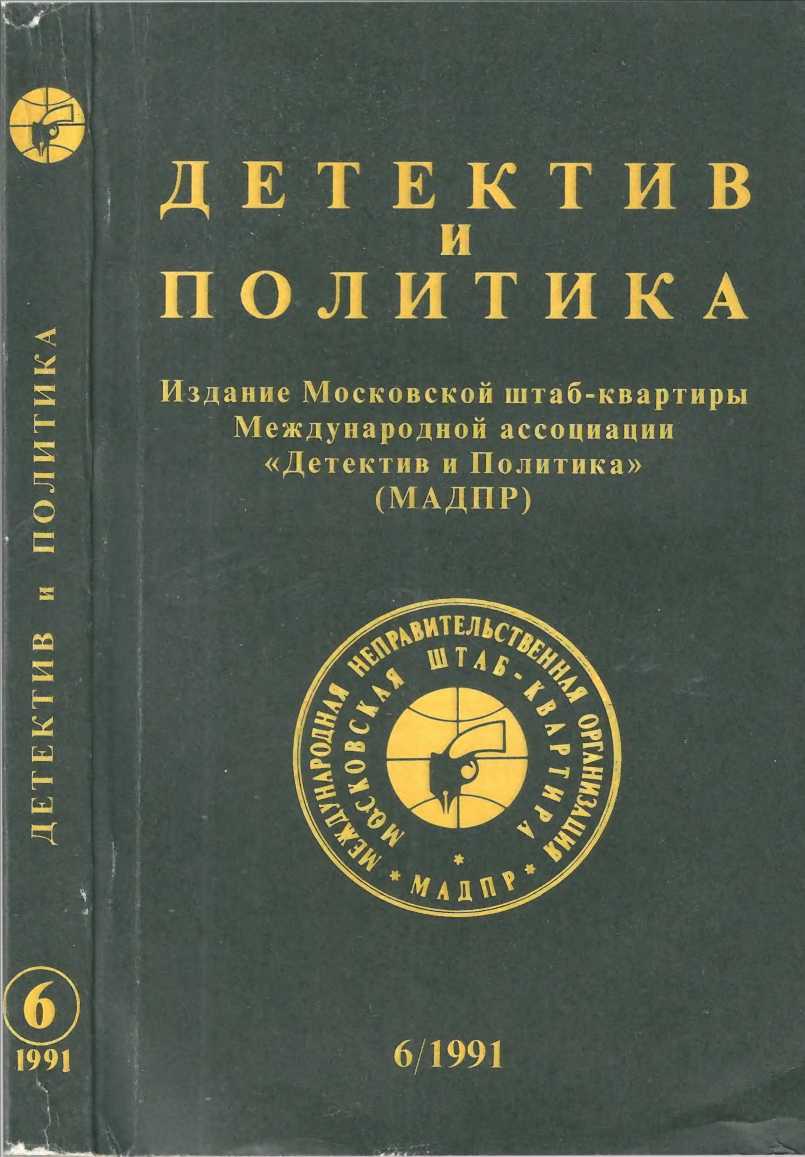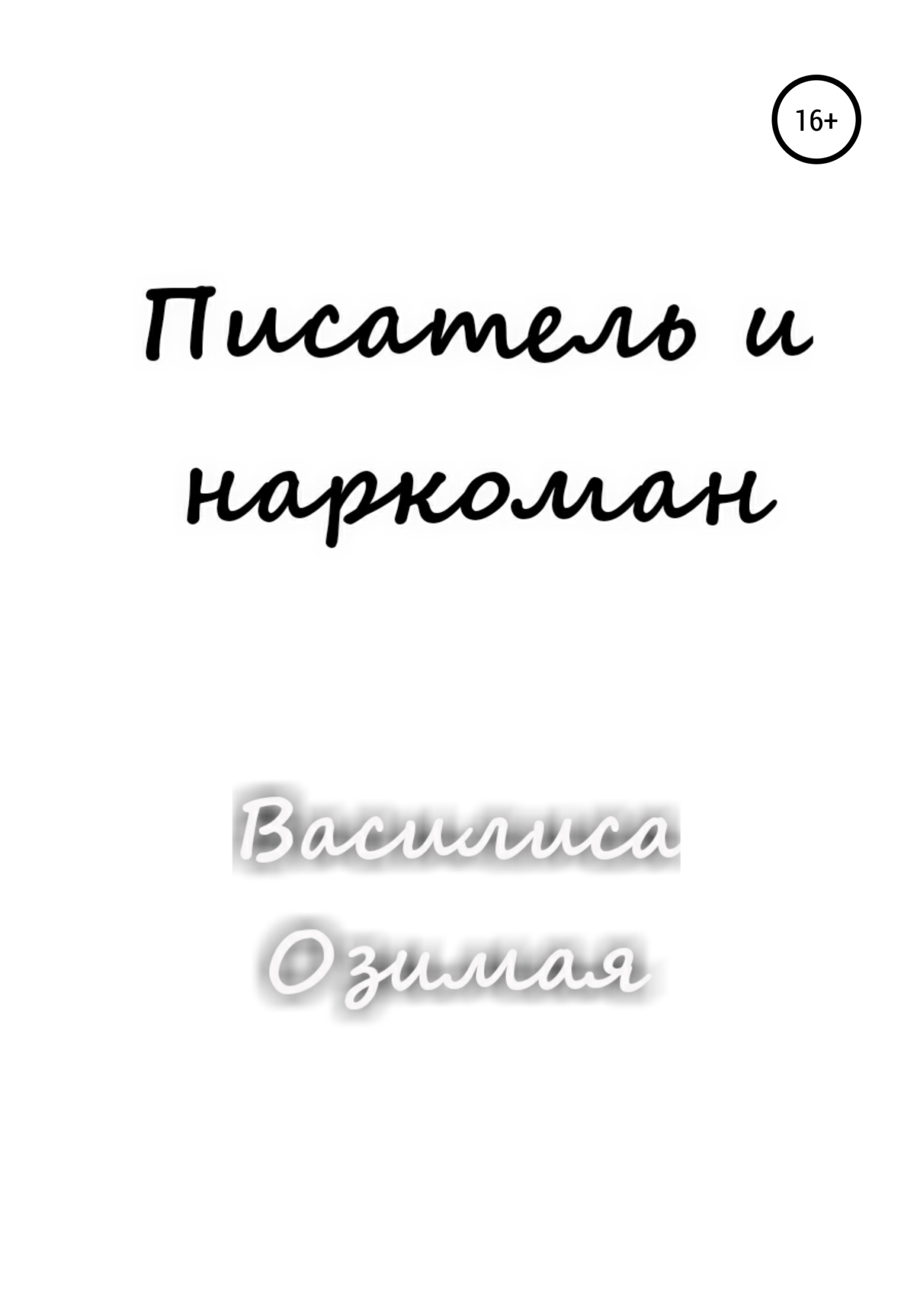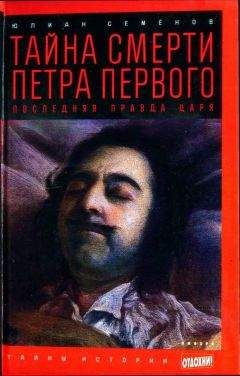политический сыск не умер, и Комитет лишь временно работал в так называемом режиме фиксации. Поэтому, хуля хунту в дни переворота, я ждал, что за мной придут, и повторял жене и оперативным наушникам то, что раньше говорил им не раз: "Пусть лучше меня расстреляют коммунисты-чекисты, чем вздернет на суку как бывшего коммуниста-чекиста ввергнутый ими в гражданскую войну народ". И расстреляли бы вместе с прочими противниками "социалистического выбора" в случае победы хунты.
Во все годы советской власти органы госбезопасности руководствовались железным правилом: в случае объявления на какой-либо территории режима чрезвычайного положения все проживающие на ней объекты дел оперативной разработки, равно как и политические заключенные, должны быть немедленно расстреляны.
Дело оперативной разработки (ДОР) — это одна из разновидностей пресловутых секретных досье на людей (объектов), находящихся в поле зрения органов КГБ в связи с наличием оперативных данных, позволяющих подозревать их в причастности к преступной деятельности. Доказательства, имеющие юридическую силу, в ДОР, как правило, отсутствуют. Их появление влечет за собой возбуждение уголовного дела, которое впоследствии рассматривается в суде. Но суд с материалами ДОР никогда не знакомится, даже не подозревает об их существовании. ДОР имеет гриф "Совершенно секретно" и после осуждения объекта сдается в архив того управления, которое по нему работало.
В семидесятых годах я, как и многие другие оперативники, ежегодно заполнял на объектов разработки специальные карточки красного цвета с указанием адресов, по которым они проживали и могли скрываться. Карточки направлялись в мобилизационный отдел Московского управления КГБ, в котором я работал. Этот отдел отвечал и за ликвидацию объектов разработки, и за эвакуацию семей сотрудников управления. Эвакуационные карточки на членов своих семей и ликвидационные карточки на объектов сотрудники заполняли и сдавали одновременно. К арестам и расстрелам объектов работники моботделов должны были привлекать подразделения армии.
Видимо, к концу 70-х годов руководство КГБ решило, что ведение отдельных ликвидационных карточек не имеет смысла, поскольку в каждом управлении существуют учеты всех объектов оперативных дел. К тому же утечка этой информации могла негативно отразиться на авторитете КГБ и тех, кому он служит. Во всяком случае, после 1978 года заполнять ликвидационные карточки мне уже не приходилось. Однако официального приказа председателя об отмене этой функции моботделов не было. Впрочем, о приказе, которым она была ранее установлена, я тоже никогда не слышал. Возможно, она считалась сама собой разумеющейся. Не забыли о ней и путчисты, которые планировали начать массовые репрессии через две недели после начала путча. Две недели было отведено ими на психологическое привыкание оперсостава КГБ и населения страны к условиям жесткой диктатуры, на реставрацию в их сознании образа врага, подпорченного горбачевской перестройкой и демократическими средствами массовой информации. Соответствующая роль в этот период отводилась кравченковскому телевидению и радиовещанию, коммунистической и национал-патриотической прессе. Поэтому никакая оперативная информация о происходящих в стране событиях личному составу КГБ в дни путча не предоставлялась.
Именно в ликвидационной функции органов госбезопасности кроется тайна расстрела в 1941 году узников Орловского централа, о котором 12 сентября 1991 года писала газета "Куранты". Да и многие другие тайны большевизма, включая историю с арестом и исчезновением шведского дипломата Валленберга.
Почему я не ушел из дому? Не было гарантии того, что в мое отсутствие не заберут жену. 21-го должна была вернуться из дома отдыха дочь. Все равно через неделю или через месяц разыскали бы. Чуть раньше, чуть позже — какая разница? Проблема ликвидации объектов до сих пор не поднималась потому, что никогда не оставалось свидетелей такого рода акций.
Знание рецептов оперативной кухни КГБ то и дело сшибало с ног тот оптимизм, который я демонстрировал перед друзьями и родственниками. Возможно, в этом и заключалась адекватность отражения в моем сознании истины как совокупности происходящих в стране событий. И время от времени я погружался в состояние невесомости и безысходности. Как четверть века назад, когда в раздутом до несгибаемости легководолазном комбинезоне был выброшен со дна под лед Химкинского водохранилища с почти пустым аквалангом, который тут же попал в расщелину между хаотично смерзшимися льдинами, словно ключ в замочную скважину.
Это были те самые глыбы, которые я несколько дней до того выпилил своими же руками, готовя водолазную майну для профилактических погружений. Чтобы уши не отвыкали от давления. И сам затолкал их под ледяной панцирь акватории. И теперь торчал в нем, как ненужный кляп во рту холодного трупа, как надутая через соломинку лягушка — руки-ноги широко в стороны — висел распластанный, лицом вниз, тупо глядя в мутно-коричневую бездну.
И она приводила меня в ужас, эта бездна, сработанная руками сталинских зэков, чьи серые трухлявые кости мы, водолазы, каждую осень выгребали вместе с желтыми и красными листьями из парка на территории спасательной станции. В нее же смотрел черный циферблат свисавшего с левой лямки акваланга стального манометра, стрелка которого упиралась в такой же фосфоресцирующий, как и она сама, "ноль".
Наверху, на краю майны, два водолаза и медсестра рвали на себя капроновый сигнальный конец, охватывавший в поясе мой грозивший лопнуть под ним комбинезон из зеленой прорезиненной ткани. Этот сверкавший белизной канат, как напильник, с визгом елозил по латунному рычажку распределительного клапана мундштучной коробки с загубником и с каждым рывком сверху передвигал его все дальше и дальше, норовя лишить меня последних крох воздуха и залить легкие тягучей мутью зимнего водохранилища.
И я узнал, о чем думают люди за несколько секунд до неминуемой гибели. И тогда сделал то, чего до этого физически не мог сделать: кинулся всем телом вправо-вниз одновременно, согнув-таки казавшийся стальным рукав комбинезона, перебросил левую руку через сигнальный конец и отвел его в сторону от мундштучной коробки. В этот миг наверху в очередной раз рванули на себя, я пробкой вылетел из жерла майны на полметра в сторону неба и шумно плюхнулся обратно в воду. Меня тут же выволокли на лед, где ныне покойный водолаз Василий Иванович Александров перебросил латунный рычажок в положение "внешняя среда", прижал мою голову к своей груди и, глядя на меня мокрыми от холодного ветра глазами через очки сразу обмякшего водолазного шлема, крикнул: "Живой!"
Через четыре года я ушел из спасательной службы в КГБ, еще через шесть заполнил первую ликвидационную карточку… А еще через шестнадцать сам оказался в числе кандидатов на ликвидацию…
В августе 91-го за мной не пришли.
Обзванивая в те дни бывших коллег-чекистов, узнал, что оперсостав находится в информационной изоляции, руководители среднего звена (начальники отделов) отказываются дать приказ на кровопролитие, а генералы, не видя