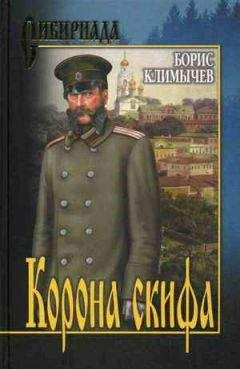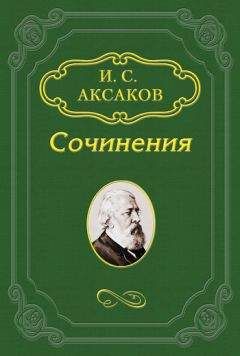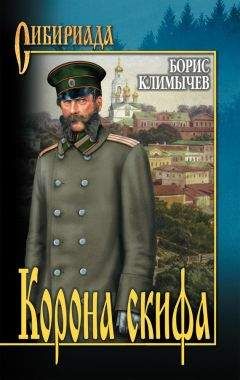Германа Ивановича приглашали в залу, но он сделал пальцем лакею:
— Пгинеси, бгатец, подносик с гъафинчиком, и этакую маленькую гюмочку!
Ни на какие уговоры Герман Иванович не реагировал, и остался в
вестибюле перед портретом, опрокидывая в рот одну рюмку за другой и честно глядя в глаза императору.
А в зале было интересно. Там, специальной подставке, стояли два первоклассных рояля, один — белый, другой — черный. Герман Густавович загорелый, цветущий, пикантно сияющий ямочками на щеках, подошел к одному роялю, за другой уселась пани Ядвига, и залу заполнила музыка Вагнера.
Золото Рейна, кольцо Нибелунгов. Зигфрид убит. Но Брунгильда въехала в погребальный костер на коне, дающее власть над миром кольцо брошено в Рейн. Сумерки богов. Русалки.
Майн гот! Что за образы! Черт возьми! Или не бери нас, черт! Но народ создает легенды не зря, не зря, не зря!
Герман Густавович взял последний аккорд, залпом выпил поднесенный ему бокал шампанского и разбил его одним ударом о стену!
Красавец, обаятельный, из высшего света. Как бы солнце, по какой-то прихоти опустившееся в таежном Томске.
Фрачные гости радостно зааплодировали. Были еще в этой зале танцы, играл пожарный духовой оркестр.
Потом пьяный буддийский монах уехал в гостиницу " Европейская" провожать не менее пьяную Понятовскую, якобы княжну.
Герман Густавович закружил в вальсе юную жену купца Федора Акулова. О, как рдеют её красивые губы! Куда ярче вишневого ковра! А венок из пшеничных волос! А гибкая талия! А стройные, но полные и упругие ножки! Брунгильда! Она самая и есть! Но не пьет вина. Это уже плохо, а на что Шершпинский? Разве он не должен платить губернатору вечной благодарностью за свое сказочное возвышение?
Герман Густавович улучил момент, чтобы пошептаться со своим полицмейстером. Тот отошел от губернатора взволнованный. Да! Деньги, подарки, всё это всесильный человек от него принимает, и дарит его своей великолепной благосклонностью, но еще большую признательность губернатора он заслужит, потакая его маленьким прихотям.
И будет он, Шершпинский, за губернатором, как за каменной стеной! Губернатор молод, служить ему долго. На жизнь Шершпинского этого хватит! Надо угодить, надо угодить! Уломать Акулиху!
Тут же послал он человека со многими фамилиями за монтевисткой:
— Таскаев! Тащи её сюда, одна нога здесь, другая — там! Понял, Глупыхин?
Минут через пятнадцать Роман Станиславович встречал Полину у
лестницы черного хода. Он взял её за руку и провел в укромную комнату, уставленную расписными китайскими ширмами и китайскими же фарфоровыми вазами в рост человека.
Стоял тут и фарфоровый диван, внутрь которого слуги наливали подогретую воду. Диван как бы повторял изгибы человеческого тела, сидеть на нем было тепло и удобно.
— Полина, ты должна сделать так, чтобы жена купца Акулова отдалась Герману Густавовичу. Когда? Сегодня, сейчас, здесь, на этом диване! Ты можешь сделать это?
Полина наморщила лоб:
— Для этого ты и вывез меня в Томск? Ты меня совсем не замечаешь, вспоминаешь только, когда тебе надо обделать очередное грязное дельце.
— Ты не права. Я тебе щедро плачу. Не время теперь разбираться. Скажи, что надо сделать, чтобы Акулиха подчинилась ему?
Полина прикрыла глаза своими длинными ресницами:
— Ты, Ромчик, скот. Но так и быть. Помогу… Если ты сперва побудешь со мной, вот здесь, на этом теплом диване, он такой гладкий, такой солнечный… — Полина погладила фарфоровое ложе длинными музыкальными пальцами.
— Ты с ума сошла!
— Думай, как хочешь!
Шершпинский решился:
— Задержкин! Стань у двери и никого не впускай!
Роман Станиславович думал о том, что глупо и нелепо заниматься с горбуньей в чужом доме любовью, да не любовью, какая любовь может быть к двум горбам? И что подумает стоящий на часах Дьяконов? А! Всё равно!
А Полина, чтобы время не терять, поспешно разделась, и Шершпинский успел заметить, что ниже горбов у неё всё вполне прилично и даже больше того, там в Петербурге он этого не заметил, но бледно-розовый фарфоровый диван так ловко подчеркивал все линии и изгибы.
Одним ухом Шершпинский прислушивался к тому, что делалось в зале. Оркестр умолк.
Сейчас самое время…
— Ну! — обратился он к Полине, что нужно тебе, чтобы охмурить Акулиху?
— Пусть попадут блюдо с пирожными и лимонад, я их заряжу.
— Чем? Шпанскими мушками?*
— Ты глуп, хотя и полицмейстер. Пусть несут пирожные.
— Бубликов! Скажи на кухне, подали бы пирожные и лимонад!
Когда принесли пирожные, Полина быстро сделала над ними несколько пассов. Сказала:
— Пусть он приведет её сюда, угостит пирожными и лимонадом, я же спрячусь за ширмой.
— Как? Вдруг они тебя обнаружат?
— Не обнаружат, я найду способ сделать так, чтобы никому не хотелось заглядывать за ширму. Если меня здесь не будет, он вряд ли, что с нею сделает. Всё! Иди!
Роман Станиславович пошел в залу, поговорил с одним гостем, с другим, как бы невзначай оказался возле господина губернатора, сказал с улыбкой:
— Одну секунду, Герман Густавович, сообщение есть.
Они отошли в сторонку, Шершпинский шепнул:
— Пригласите её поглядеть фарфоровую комнату, обязательно угостите лимонадом и пирожными, всё там, на столе…
И стол, и диван, и стулья — всё из фарфора? И вазы в рост человека? Розы? Из Китая?
Ну почему не посмотреть эту китайскую комнату? Веселая Брунгильда впорхнула в заветную комнату. Почему чуточку не пококетничать с молодым господином губернатором?
Пирожные? Да, очень вкусно. Запивать? Только не вино, не привыкла, от вина кружится голова. Лимонад можно, конечно, чудесный лимонад!
Акулиха не понимала, что с ней происходит. Низ живота наполнился сладкой истомой. Диван звал прилечь, гладкий и теплый. И то, что раздевал её чужой мужчина, было вовсе не страшно и не стыдно. Откуда-то наплывали волны желания и музыка, непонятная, небесная, нездешняя.
А Герман Густавович думал, что эта удлиненность живота дана им для расположения внутри некоторой пустоты, прекрасной, зовущей пустоты. Заполнить! О, они похожи на нас и одновременно — не похожи. И это прекрасно! Это изумительно!
И он тоже слушал музыку, это был не рояль, не духовой оркестр, черт его знает, что это было. И звучало не из соседних комнат, не с потолка, ниоткуда, и отовсюду.
А жандармский полковник, тезка губернатора, всё беседовал с портретом императора. И самодержец погрозил ему пальцем и сказал:
— А ты свинья, Герман Иванович! Ты уже и на ногах стоять не можешь!
— Не могу! — ответствовал Герман Иванович, — присаживаясь на диван возле маленького столика.? Стоять не могу, но донос написать могу. Хотите, ваше величество, я сам на себя донос напишу? Челоэк! Перо и бумагу!
Когда лакей принес требуемое, Герман Иванович криво начертал на листе: "Настоящим доношу, что жандармский полковник был пьян, как свинья, на балу…"
Тут силы полковника оставили и он свалился под стол.
Чудесный вид открывается с Воскресенской горы. Виден весь Томск, расположенный на семи холмах. На каждом холме сияет куполами церковь.
Склоны Воскресенской горы круты, обрывисты, поросли кустарниками, березами, елями. Кое-где вьются тропинки. У самого крутого склона сохранилась часть стены древней крепости.
На этой горе стоит высоченный черный крест, поставленный на месте упокоения Карла Лилиенфельда и жены его Софьи. Означенная Софья фрейлиной при императрице Елисавете, участвовала в заговоре, была сослана в Сибирь навечно, а Карл добровольно последовал за ней. И остался лежать тут на горе, чтобы думали мы о вершинах, на которые можно подняться, и о пропастях, в которые можно упасть.
Много на горе памятных камней с готическими буквами, почерневших от времени памятников, неизвестно когда и кому поставленных. Тут покоятся умершие в плену шведы, немцы, многие люди, которые были прежде знамениты, а теперь забыты, известно только, что ссыльные эти были непростые, знатных родов.
Камни замшели, нет никого, кто пришел бы им поклониться, принес бы цветы, окропил бы их слезами. Всё проходит на свете. Всё забывается. Пока вот еще помнят Карла, который за женой своей ринулся в стужу, в дикость, в безвестность.
Лиственничный крест стоит у самого обрыва, И отсюда видно, как внизу кони тянут телеги с грузом и экипажи, как суетятся люди. Видно сборный деревянный бассейн у Ближнего ключа, в круглом бассейне отразилась луна. Говорят к этому бассейну гимназисты приходят читать стихи, а какая-то барышня там нередко играет у воды на скрипке, и звук, отраженный водой, летит далеко, далеко.
На горе домов немного, но всё дома древние, вросшие в землю, Есть среди них и каменные с глубокими подвалами и колодцами. Мостовая выщерблена, летом меж камней буйно растет трава, а зимой неровности сглаживает спрессовавшийся снег.