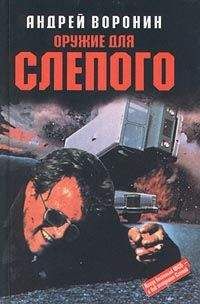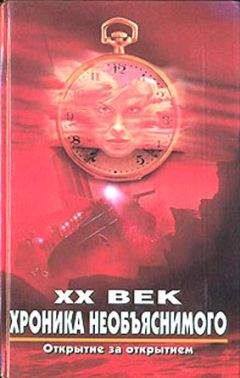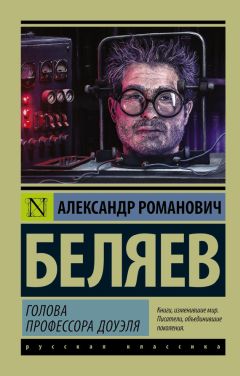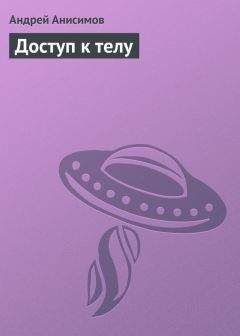Гидравичюс даже побледнел, услышав столь длинную тираду от человека обычно немногословного. В каких чинах господин Браун – об этом Гидравичюс мог только догадываться, но, судя по всему, он занимал в ЦРУ немалую должность.
– Сегодня здесь схлестываются государственные интересы. У русских сейчас денег немного, они сворачивают армию, увольняют офицеров в запас, техника ржавеет. Но ни техника, ни автоматы, ни даже ракеты им будут не нужны, если они смогут создать генетическое оружие.
– Но ведь, извините, господин Браун, от открытия до производства довольно большой путь…
– Да, большой. Но если государство пожелает, этот длинный путь можно преодолеть достаточно быстро. Мы полагаем, что на это в ближайшее время Россия бросит все силы. На это будут работать все те интеллектуалы, которые остались в военно-промышленном комплексе. А умных людей там еще хватает, поверьте, я-то знаю.
Витаутасу Гидравичюсу стало не по себе. Он, маленький человек, одиннадцать лет назад завербованный ЦРУ, должен будет убрать такого великого, судьбоносного человека, как доктор Кленов. Все это было выше его понимания.
«Неужели ставку делают только на меня? А если на меня, то какие деньги за этим стоят!»
Ведь раньше, когда он получил задание, ему не объяснили всех подробностей, лишь сказали, что ученый Кленов работает на военное ведомство. Теперь же все выглядело совсем по-другому. Если Кленова так плотно опекают, то теперь к нему не подобраться, особенно после неудачного покушения. А попадись он, Гидравичюс, в лапы русских спецслужб, то от него тут же все открестятся и обменивать его никто не станет: слишком маленький человек, просто разменная пешка, нужная лишь для того, чтобы переместиться с белого поля на черное, закрывая более важные фигуры.
– Надеюсь, теперь вам все ясно?
Гидравичюс лишь устало кивнул.
Мужчина подошел к столу и нажал невидимую кнопку. Тут же распахнулась дверь, и появились двое сотрудников в черных костюмах с кейсами в руках. Хозяин представил вошедших Гидравичюсу. Мужчины пожали друг другу руки.
– Они объяснят вам ваше задание в деталях. А я прошу прощения и оставлю вас, – и хозяин кабинета вышел, закрыв за собой дверь.
– Господин Браун объяснил вам, кто такой Кленов? – спросил один из сотрудников.
– Да, теперь я в курсе, – спокойно ответил Гидравичюс.
– Вот и прекрасно. Смотрите сюда.
Дипломат с кодовыми замками открылся, и на стол легли фотографии, схемы, белые листы бумаги. Из второго дипломата был извлечен ноутбук, его экран засветился, и на нем тоже замелькали фотографии, схемы, списки фамилий.
Гидравичюс слушал внимательно. Он понимал, что вряд ли на него делается основная ставка. В конце концов, кто он такой? Так, мелкий агент, почти любитель.
Скорее всего, будут действовать более серьезные профессионалы, а он – лишь прикрытие или наживка для отвлечения внимания спецслужб. Но возможен был и другой вариант. Спецслужбы плохи тем, что громоздки, и в них неизбежна утечка информации. Значит, о планах профессионалов ЦРУ могут узнать профессионалы из ФСБ, из русской внешней разведки, из ГРУ. А он, Гидравичюс, останется в тени, и именно он окажется ключевой фигурой. Отказаться Витаутас не мог – слишком многое знали о нем, слишком много знал он сам. Теперь на карту была поставлена не только жизнь Кленова, но и его собственная. Откажись он, сделай неверный шаг – и из Праги ему уже никуда не уехать, он останется здесь, естественно, в виде трупа. Ведь мертвые, как известно, молчат. А ему прозрачно намекнули, рассказав достаточно много, что жизнью своей он уже не располагает. Да и разговора о деньгах никто не завел, как случалось обычно – значит, ставка больше денег.
Витаутас Гидравичюс покидал ветхое двухэтажное здание с тяжелым сердцем. В голове все время крутилась одна и та же русская фраза, хоть он и привык думать то по-английски, то по-литовски:
«Херня какая-то!»
Первым его побуждением было поехать в аэропорт и улететь куда-нибудь к черту на кулички, упасть на дно и затаиться. Но он знал, что это невозможно: его сын учился в Берлине, жена с дочкой жили в Вильнюсе. А семьей Витаутас дорожил, в детях своих души не чаял.
Тем же вечером Витаутас Гидравичюс покинул столицу Чехии и самолетом чешской компании улетел в Москву. В самолете он принял сразу две таблетки от головной боли. Нервы его были на пределе, даже руки подрагивали.
На квартиру, которую снимал Гидравичюс, ему пришлось ехать на такси: от волнения перед отлетом он забыл позвонить своему шоферу, чтобы тот встретил его в аэропорту. Витаутас вспомнил об этом, только когда вышел из терминала и машинально взглянул на стоянку, как будто его темно-зеленый «Шевроле» все еще должен был стоять там, как будто и не прошло дня, за который он успел слетать в Прагу и вернуться назад.
Иван Николаевич Лебедев телевизор не любил и время, проведенное перед экраном, на котором то и дело меняется изображение, считал просто-напросто потерянным. Не любил он и слушать радио, и говорить по телефону, хотя понимал, что без радио, без телевизора, без телефона и компьютера цивилизация существовать не может.
Дочь академика Лебедева хитро улыбнулась и посмотрела на свою мать, когда в огромной квартире, занимающей пол-этажа в пятиэтажном доме в самом сердце Москвы, в Столешниковом переулке, зазвонил телефон и в трубке послышался мужской голос с явно выраженным иностранным акцентом. Жена академика сидела с книгой в руках в глубоком старомодном кресле.
– Мамочка, это отца, – сказала Вера Ивановна.
– Поинтересуйся, кто.
Дочь академика, которой было за сорок, вежливо и спокойно осведомилась, кто спрашивает Ивана Николаевича Лебедева. Прозвучала короткая английская фамилия, ничего ей не говорившая.
– Погодите минутку, Иван Николаевич работает, – Вера положила трубку и заспешила вдоль стен, заставленных книгами, к двери, за которой находился кабинет академика.
Она вошла. Иван Николаевич Лебедев, восьмидесятичетырехлетний старик, сидел на верхней ступеньке стремянки почти под самым потолком и перелистывал толстую книгу.
– Пап, тебя к телефону.
– А? Что? – рассеянно переспросил Иван Николаевич, не поднимая головы.
– Я говорю, тебя к телефону.
– А, к телефону… Понял, понял. А кто, Верочка? – продолжая листать страницу за страницей, спросил академик Лебедев.
– Уильям Джемисон какой-то.
– Уильям Джемисон? Это тебе не какой-то! Придется уважить.
Иван Николаевич Лебедев спустился со стремянки и не расставаясь с книгой подошел к своему рабочему столу, на краю которого стоял черный старомодный телефон, такой тяжелый, что им можно было пользоваться как прессом.
Он поднял трубку:
– Иван Николаевич Лебедев слушает.
Послышалась долгая тирада, в которой звонивший пытался высказать все свое почтение, уважение и восхищение Иваном Николаевичем и его научной деятельностью. Абсолютно незаметно для самого себя и к удивлению собеседника Иван Николаевич заговорил по-английски, причем не просто на английском языке, а на старомодном, без современных жаргонных наворотов.
Он говорил, наверное, примерно так, как писал когда-то Диккенс. Собеседник был удивлен и снова разразился пространной восторженной тирадой.
Разговор состоялся не очень длинный, минут на восемь. Имя Уильяма Джемисона было известно почти каждому ученому: он являлся издателем одного из самых авторитетных научных журналов, и попасть на страницы этого издания для любого ученого считалось великой честью. Но академика в его преклонном возрасте уже ничем невозможно было удивить. В журнале мистера Джемисона его труды публиковали уже раз тридцать, а ссылки на работы русского ученого Ивана Лебедева делались несчетное количество раз.
Когда академик положил трубку, в дверях появилась жена, полная, седая, уютная. Она несла поднос, на котором стоял стакан с чаем в серебряном подстаканнике и лежало несколько сухарей в изящной розетке.
– Кто это тебе звонил?
– Господин Джемисон из Лондона.
– Тот, который…
– Да, именно тот.
Надежда Алексеевна хмыкнула.
– Отвлекают тебя от работы.
– Да нет, ничего. Жалею, что пришлось спускаться со стремянки, по ты знаешь, я нашел то, что долго искал, – он указал на толстую книгу, – Так что второй раз подниматься не придется.
– Я же тебя просила, Ваня, – всплеснула руками Надежда Алексеевна, – никогда больше не лазай по этой стремянке. Ты воображаешь что еще молодой, что л и?
– И не такой уж я древний старик, как-никак, восемьдесят пять – это не сто восемьдесят пять.
– Не преувеличивай. Тебе еще нет восьмидесяти пяти, – уточнила супруга академика, во всем любившая точность, особенно в определении возраста. В этом деле, как она понимала, лучше немного преуменьшить, чем преувеличить, так оно спокойнее, и человеку приятнее.