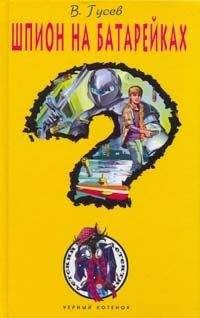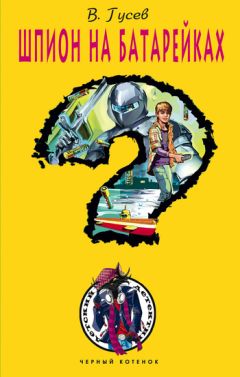Я беспощадно винил себя за то, что принял помощь Полковника в том бою. Но я не мог ему отказать. Он всю жизнь боролся с врагами – на войне, на партсобраниях, на митингах, он сам выбрал свою судьбу по долгу, чести и знамени – «под оным и умереть должно». Он не мог иначе. Он сам предопределил свою гибель – если не в бою с Русланом, то на митинге от руки провокатора или сапога омоновца.
Но от этой мысли не становилось легче. Скорее – наоборот. Потому что я любил его. Потому что потерял уже слишком много своих верных людей. По разным причинам… Я постоял напротив того места, где пал мой старший товарищ по оружию. Казалось, что здесь еще пахнет сгоревшим в стволах порохом, И этот запах не может перебить даже вонь вовсю работающего экскаватора – строителя «новой жизни». Беззвучно подошла тетя Глаша, стала рядом. Она все еще была в черном – в платке, в старенькой плисовой жакетке – и держала в руке узелок, будто заранее знала о моем приезде.
– Здравствуй, Леша, – сказала она, отерев щеки концами платка. – Приехал? На могилку проводить? Пойдем, милый, помянем светлую душу.
По дороге Даша подробно рассказала, как хоронили Полковника, кто был и кто не был. Что говорили над гробом. И что сказать забыли. Были его однополчане, фронтовые друзья, родни не было. Полковник порвал с ними, с самыми близкими по крови, потому что верность долгу оказалась сильнее родственных уз. Сыновья и внуки Полковника уверенно врубились в рынок, успешно занимались «коммерцией», наживаясь на людской беде, глупости и растерянности. Легко и даже злорадно отказались от прежних идеалов и принципов. Он не мог этого принять. И простить. И ему его непрощения не простили тоже.
– Леша, – жалобно попросила Глаша, когда мы подходили к кладбищу. – Забрал бы ты Поручика, пропадет бедный. Все на могилке сидит. Исхудал, облез, а не уходит, погибнет кот. Я его сколько раз к себе относила, все удирает. Ты забери его, приласкай.
Могилу Полковника я узнал издалека, хотя до этого на ней не был: сперва меня держали, а после сидел по подписке. Даже на похороны, сволочи, не отпустили.
Среди ветхих и свежих крестов стояла железная пирамидка с красной звездой, заваленная до портрета высохшими цветами. Среди них сидел, собрав лапки в одну точку, Поручик и смотрел на меня огромными глазами обиженного, непонимающего ребенка.
Я присел перед ним, он взобрался мне на плечо и стал тереться головой о шею, будто шептал на ухо свои обиды.
– Сегодня приберу цветы, – сказала Глаша, – все жалела. Да уж посохли совсем.
Мы собрали цветы, вынесли их за ограду, и я положил свои красные гвоздики. Глаша развязала узелок, расстелила его на скамеечке. Поручик свернулся у меня на коленях.
– Давай помянем, Леша, хорошего человека, – она приподняла стакан, – пусть знает, что мы его не забудем.
Мы выпили, стали молча закусывать.
– Он тебя любил, – сказала Глаша, утирая глаза, – скучал без тебя, все говорил про тебя, что… – Она не сдержалась и закрыла заплаканное лицо руками. – А какие песни мы с ним, бывало, пели. Он все больше старые любил, совецкие… с душой песни… Да ты знаешь. – Она снова наполнила стаканы. – Ты не мучай себя, Леша, не казни. Он ведь по своей воле за тобой пошел. Не мог он не пойти. Очень за страну терзался, предателей ненавидел. Мы ведь привыкли за счастье Родины жизни свои отдавать. Немало уж отдали… А счастья все нет.
– И не было? – спросил я, смахивая со скамьи упавший с дерева лист.
– Только сейчас и поняла, что было. Когда лишилась. А до того не задумывалась – что это такое? Да ладно, ты-то как? С женой-то замирился?
– Ненадолго. Сегодня опять ушел. Видно, уже насовсем.
– Вот и я думаю – не сладится у вас. Бывает, беда и тревога сдружат навек, а бывает, что и наоборот. Через все уже вы с ней прошли. Больше нечего вам вместе ждать, все пережито – и радость, и горе. Порозно вам теперь ищи. Ты уж не серчай на нее. Нет тут виноватых. Вы свою чашу общую до дна уже осушили…
– Меня тут никто не спрашивал? – переменил я разговор.
– А как же! Раза два уже был мужик, все вокруг дома ходил, в окошки заглядывал…
– Какой мужик, Глаша?
– Обычный. В пиджаке. Говорит. Сергеев-то тут бывает?
– А ты что?
– Говорю, бывает…
Аи да молодец, Глаша!
– Говорю, седьмого числа обещался приехать.
Аи да умница!
– Теть Глаш, я у тебя переночую, а?
– А то! Мы еще и выпьем с тобой, Только Поручика забери. Полковника наследство. Небогато нажил – кота да медали.
– Вы забрали их?
– Не беспокойся, все прибрала. Им-то не надо никому. Им главное – участок. Чужие они ему хоть и родня – а чужие! Он-то совецким был, а они совсем другие, сейчас дом ставят. Да ведь ты и видал его. Старый-то уж не поправить было, весь в дырках от пуль…
Правильно, сперва кулями разнесли, а потом бульдозером сровняли. Один процесс.
– Да и ни к чему им такой – простой больно, без затей, стыдно им в таком дому гостей принимать. Да и медали им ни к чему. Все прибрала, тебе хотела отдать, по обычаю – память будет. И мундир с орденами, и документы.
– А бинокль?
– И его прибрала – опять про тебя вспомнила. При твоих делах – тебе нужная вещь. Ну, пойдем, темнеет уже. Не заметили, как и осень подобралась…
Глаша собрала свой узелок, низко поклонилась могиле, что-то прошептала и перекрестилась, Я расстегнул куртку и сунул Поручика за пазуху. Он благодарно прижался ко мне теплым худеньким тельцем, но не мурлыкал. Теперь уж, наверное, и не будет.
Утром я распихал по карманам фляжку с водой, пару бутербродов, сигареты, повесил на шею бинокль и пошел к церкви. Ее высокая колокольня стояла еще облезшая, без кровли, но колокола уже висели полным комплектом. Звонил в них, разгоняя грачей и собирая прихожан, бывший председатель бывшего колхоза «Васильки» Петька Просвирин, далеко не старый еще мужик. Звонил не худо, в лад, в тон и, как говорится, точно по теме. И дивиться тут нечему – наш человек на все горазд: что в колокол бить, что народом руководить. Как-то я спросил его, как ему удалось освоить такое забытое и непростое дело.
– Это не задача, – ухмыльнулся Петро. – Дочка с городу пластинку привезла, «Ростовские звоны» называется. По ней и освоился. Могу и «Камаринскую» вдарить, да батюшка не велит.
Он сидел на каменной приступочке, в щелях которой билась уже засыхающая травка, тянулась напоследок к чистому небу. Запрокинув голову, щурясь от солнца, тянул из горлышка молоко, смахивал с небритого подбородка белую струйку, никак не мог оторваться.
– Привет, Петро!
– Здорово, Леха. – Он поставил пустую бутылку на камень, привстал, сунул навстречу холодную ладошку. – Чего не спится-то?
– Уезжаю сегодня.
– Далеко ли? Небось за рубеж? Сейчас все туда повадились. Бегут. Натворили делов – и бегут. Стало быть, попрощаться заехал?
– Стало быть, так…
– Полковника-то навестил? Ну-ну. Глаша приходила по нем панихидку заказывать, а батюшка говорит: а то сами не знаем! Отслужил.
– Сегодня звонить будешь?
– Не, чего звонить…
– Можно я на колокольню поднимусь?
– Оглядеться пристало? Попрощаться? Да погляди, коли такой нежный, не жалко. Только взбирайся осторожно, ступени не меняли еще, дерево все погнило без кровли. Смотри не оборвись, держись к стенке поближе, на середку не ступай. Покурить-то найдется?
Он порылся в карманах, вытащил большой ключ, отпер скрипнувшую петлями кованую дверь в сводчатом проеме. Отдал мне ключ.
– Потом сюда, под этот камень, положишь.
Я поднялся на верхнюю площадку. Колокола негромко, по-шмелиному густо гудели от верхового ветра, веревки, спадая с языков, чуть заметно шевелились, волнисто уходили вниз. Сгнившую и обвалившуюся кровлю заменяла негустая крона березки, вцепившейся в серые влажные кирпичи карниза. Вокруг колокольни чертили небо ласточки.
Я подошел к перилам, поднял бинокль. «Вот моя деревня, вот мой дом родной», вот проселочная дорога среди деревьев, ведущая к шоссе; виден его кусочек, быстрый промельк машин на трассе… Все как на хорошей, рельефной карте. И если муха навозная по ней поползет, ее и нарочно не проглядишь. Думаю, и ждать долго не придется…
Рассчитал я верно – около семи с трассы свернула иномарка, нырнула под кустик, спряталась. Мужик в пиджаке, с сумкой через плечо, постояв на дороге, пошел не торопясь к моему дому. Постучал для порядка в запертую дверь, потоптался вроде бы растерянно на крыльце, обошел дом, заглядывая в окошки. Вновь поднялся на крыльцо, незаметно огляделся, вынул из сумки отмычки, ковырнул в замке и шмыгнул, как крыса, в дом.
Управился он быстро. Опять постоял на крыльце и огляделся, запер дверь и, пройдя недалеко по дороге, свернул в кусты. Конечно, он ведь не уедет, пока не убедится, что дело сделано, и сделано чисто.
Я хорошо рассмотрел его в бинокль, когда он устраивал свой НП (расстелил камуфляжную накидку, улегся на нее животом, вырвал перед собой мешавшие наблюдению травинки, выложил сигареты), – лицо незнакомое, неприметное. Да мне-то что до его лица? Я первым стрелять не буду, не велят. Но если назойливая муха рассчитывает прогуляться по моему лицу – бледному, с запавшими глазами и приоткрытым ртом, – не грех ее прихлопнуть. Хоть самую малость, но чище станет. Кто меня за это осудит?..