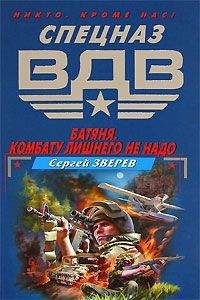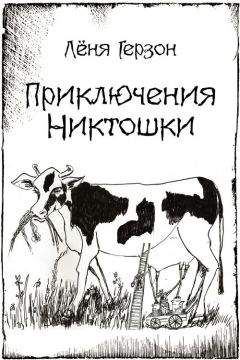Ознакомительная версия.
– И на что вы надеетесь? – задал я логично вытекающий вопрос. – Что приедет добрый царь, всех накормит и отведет в теплые дома?
– А мы на что-то надеемся, милок? – удивился Арсений. – Да ни хрена мы не надеемся. Живем и не знаем, зачем нам это надо. Отмучаемся скоро, не волнуйся. Вот Прасковья Ставрыгина не далее как вчера дочурку чахоточную взяла под мышку, поднялась на скалу в аккурат под Могильной пещерой – ну, чтобы далеко их потом не волочь, – да и спрыгнула, Царствие ей небесное. Глядишь, когда-нибудь и мы… Да что тут далеко ходить, не за горами новая зима…
Я невольно начинал задумываться. Если происходящее в Каратае имеет отношение к строительству утопии – заведомо несбыточной мечты о будущем, то всем, кто так считает, придется иметь отношение к сумасшедшему дому. С кем строить-то собираются? Или в этом есть определенный высокий смысл, не доступный для «внутреннего» наблюдателя? Вымрут слабейшие, маргиналы перебьют друг друга, останутся сильные, решительные, готовые наладить мирную жизнь на залитой кровью земле, тут-то и восторжествует царствие социальной справедливости без всяких антигуманистических элементов, розовая мечта Платона, Томаса Мора и Сэмюэля Перчеса?
Бред какой-то. Как насчет неустранимости социального зла?
Или не совсем чтобы бред? А меня это, интересно, в какой-то мере касается?
Поблагодарив за «приют», мы засобирались в дорогу. Местный «предводитель» охотно объяснил, куда идти. Распадок упирается в гигантскую скалу и… собственно, продолжается – в теле скалы есть сквозной извилистый проход, выводящий прямиком на старую дорогу. А под скалой тоже обитают люди…
– Куда же вы пойдете на ночь глядя? – недоумевал Арсений. – Уже смеркается. Оставайтесь у нас, ложитесь, где хотите, переночуете, никто вас не обидит… хотя о чем я – вы сами любого обидите…
Мы любезно поблагодарили и расстались с честной компанией. Виола торопила; она уже чесалась, нервничала, твердила, что еще немного в этом славном местечке – и в организме начнутся необратимые изменения. Уж лучше она под старым дубом, во сырой земле, в компании волков, чем рядом с этими милыми людьми…
Мы отправились дальше и вскоре погрузились в глубокую полость под скалой, напоминающую длинную подворотню. Здесь было сухо, и адский запах правил безраздельно, невзирая на шныряющие по переходам сквозняки. И здесь горели костры, лежали люди, кашляли, стонали, разговаривали. Чадили факелы, прикрепленные к стенам. В этом было что-то не от мира сего – сообщество потенциальных самоубийц, живущих непонятно как, непонятно зачем. Очутись я в подобной ситуации, не стал бы так жить. Умер бы на воле – там, где ветер, туманы, запахи тайги… В свете пламени мерцали изувеченные конечности, покрытая струпьями кожа, возникали полумертвые лица с библейскими минами. Кто-то тянул к нам руки, просил еды. Мы невольно ускорялись – смотреть на это «великолепие» было невозможно…
– Луговой? Михаил Андреевич Луговой? – прозвучал в спину слабый голос.
Я встал как вкопанный, похолодало в нижней части позвоночника. Голос раздавался из груды тряпья – в шаге от факела, вкрученного в трещину.
– О, боже, по волнам моей памяти… Может, без этого обойдемся? – ворчливо бросила Виола.
Но меня снедало любопытство: кто это тут такой глазастый? Я выкрутил факел из стены и чуть не подпалил тряпье – слишком близко поднес. Человек пытался приподняться. Сел на корточки, прищурил единственный глаз. Волос на голове практически не осталось, а то, что уцелело, свисало ломким хвостиком. Правая сторона лица полностью выгорела, глаз представлял синеватый рубец. Левая рука атрофировалась, свисала безжизненной культей. Это был не человек – пародия на человека.
– Не ошибся, это ты, Михаил Андреевич… – раздвинулись в ухмылке изувеченные губы. – Наш прославленный борец с ненавистным режимом…
– Борис Семенович Хруцкий? – неуверенно предположил я.
Не может быть! Давнишний недоброжелатель, трудящийся при Благоморе в параллельном «надзирающем» отделе. Мы не выносили друг друга органически. Неустанно поддевали, упражнялись в язвительных замечаниях, желали друг дружке самого худшего. Но что-то не припомню, чтобы наши помыслы перетекали в практическую плоскость. Хотя, возможно, я чего-то и не знал…
– А ты не изменился, все такой же молодец… завидую тебе, Луговой… – Он потянулся ко мне, задрожал, функционирующий глаз налился кровью. – Что, Луговой, ты и сейчас себя чувствуешь как рыба в воде?.. Что сомкнул свои брови? Ну, ударь меня, ударь…
– Слабых обижать нехорошо, – неуверенно заметил коротышка.
– А сильных – опасно, – добавила Виола.
Хруцкий хрипло засмеялся, расслабился, рухнул на лежанку и тяжело задышал.
– Ладно, Луговой, кто старое помянет… Серьезно, черной завистью тебе завидую… Телка знатная у тебя, и сам смотришься огурцом… А я тут, типа, сменил статус, не повезло мне. Эх, начать бы жизнь заново…
– Да уж вижу, Борис Семенович. Рассказывай, как тебя угораздило.
Каждое слово давалось ему с трудом. Этот человек не жил – доживал. Влачить в этом мире Борису Семеновичу оставалось недолго. Организм разваливался – отказали почки, желудок не переваривал даже растительную пищу. История Хруцкого не отличалась оригинальностью. В эпохальную ночь он сладко спал. Когда рвануло и над долиной Покоя завис пороховой дым, бежал в тайгу, прихватив из дома «тревожный» рюкзачок. Неделю с группой таких же, растерянных, дезориентированных, просидел на охотничьей заимке. Конфликт в коллективе, драка, пожар. Он выжил, в отличие от товарищей, но от лица осталась ровно половина. Слонялся по Каратаю, прибился к какой-то банде, но банду разгромили, и снова он очнулся в тайге. Бродягу потрепал бурый мишка, после чего рука превратилась в ненужный отросток. Зиму он провел на заброшенном хуторе в таежной глуши, как-то выжил в компании сирых и убогих. Питались замороженной рыбой, «питательными» корешками. Несложно догадаться, что после зимы Хруцкий превратился в ходячее собрание популярных болезней. Но он упрямо сопротивлялся, гнал от себя «растительную» жизнь. По весне доковылял до Драконьей гряды, тут и зачах окончательно. Жизнь вытекала по каплям. Поначалу еще ходил, пытался как-то участвовать в общественной жизни, а нынче – только по нужде, «за угол», ноги начинают отниматься…
– Не уходи, Луговой, поговори со мной… – Хруцкого пробило на слезу. – Не представляешь, как обидно, лежать тут, ждать подлюки-погибели… С тобой-то как, расскажи… Наших кого-нибудь видел?
Я не чувствовал злости к этому несчастному. Проехали. Но и оставаться в его компании было мукой. Спутники нервничали, дышали в затылок. Я начал путано объяснять, что не сопротивлялся никогда «ненавистному режиму», был лоялен Благомору, уж Хруцкий обязан знать, что такое подстава. Но махнул рукой, кому это сейчас интересно?
– Прости, Борис Семенович, рад был пообщаться. Идти нужно.
– Подожди, Михаил Андреевич… – Он волновался, простирал ко мне чернеющую руку, давился слезами. – Ну, будь же человеком, не спеши…
– Не могу, Борис Семенович, дела. Выздоравливай.
Он утробно смеялся – с истеричными, злыми нотками. Пожелание звучало как издевательство.
– Ну, дай хоть пожрать, Луговой… У вас есть, я знаю. Два дня уже не жрамши ни хрена…
– Рад бы помочь, Борис Семенович… – Идиотская ситуация, я чувствовал, как щеки пылают. – Нет жратвы, ни крошки, мамой клянусь. Все отдали вашим людям. Знал бы, что встречу тебя – уж оставил бы, не сомневайся…
Паршиво я чувствовал себя после этой встречи. Вроде и не в чем себя упрекнуть, а такая гадость на душе, словно подлость совершил. Но не мог я устроиться при нем нянькой! Мы были сыты по горло этой коллекцией человеческих страданий.
Наша группа бежала по тоннелю почти без остановки. А несчастные стонали, кричали нам что-то. Гримасничали уродцы в свете костров – блики пламени прыгали по шелудивым лицам; ворочались и сипели обитатели пещеры, укрытые зловонными хламидами. Проходы разветвлялись; несколько раз мы сворачивали не туда, упирались в тупики, бежали обратно. Выбежали, как из смрадного склепа, на свежий воздух… и кинулись, ошеломленные, обратно. Дождь хлестал как из ведра!
Проливные дожди – не частое явление в Каратае, но всякое случается. Законы пакости никто не отменял. Дорога пролегала метрах в пятидесяти, за дорогой чернел лес, но все это вуалировалось косой стеной падающей воды. Тучи плыли с севера – клочковатые, махровые, без просветов.
Мы стояли под козырьком скалы и уныло созерцали это светопреставление. Стихия неистовствовала, порывы ветра гнули деревья, мотались клочья травы. Спутники потрясенно молчали.
– Может, скоро кончится? – неуверенно предположила Виола.
Мы опустили головы и посмотрели на коротышку.
– У меня нет умных мыслей, – важно заявил Степан, скрещивая ручонки на груди.
Ознакомительная версия.