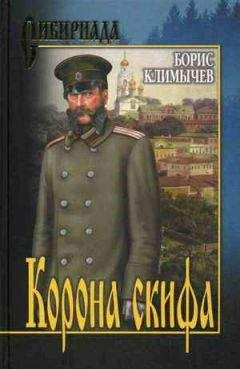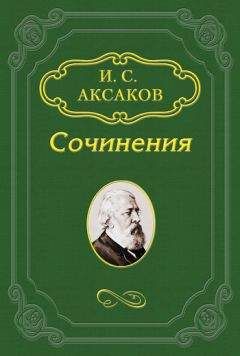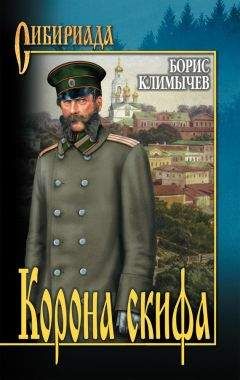Несколько карет проследовало за город к бывшему урочищу татарского хана Басандая. Там прежде была дача покойного золотопромышленника Степана Ивановича Попова, прозванная им отрадным приютом. И совсем не зря так прозвал он сие место.
Меж высоких утесов струилась и несла разноцветные камушки извилистая речушка Басандайка, выходили к ней по берегам белые и синие глины, галечные осыпи. По утесам вздымались шатры могучих елей и кедров, картину эту подсвечивали березки и осинки.
Природа напоминала величественный храм. Дышалось здесь легко и отрадно, шумели леса, и ворковала река. Покойный Степан Иванович бы знаменит тем, что открыл в киргизских степях свинцовые и медные и серебряные руды, поставил возле месторождений заводы. В Крымскую войну его заводы снабжали российскую армию свинцом.
На одном из утесов, в поселке, именуемом Басандайкой, Степан Иванович построил красивую церковь. Он завещал похоронить себя под ней, что и было исполнено. Теперь дача Поповых пустовала.
И вот в первые теплые вешние дни прибыла сюда вереница карет. Из первой кареты вышли Роман Станиславович Шершпинский и человек со многими фамилиями, из другой кареты вышел Герман Густавович Лерхе, оглядывая окрестности, сказал, очаровательно улыбаясь:
— Действительно, прелестно. Этот ваш Попов открыл подлинную Аркадию для своего отдыха, великолепно!
Из других карет вышли Вилли Кроули с негром Махоней, представитель Будды Цадрабан Гатмада, повар-китаец Ван Бэй, глухонемой Пахом, и восемь девиц, очень приятных на вид, очень юных, одетых по парижской моде и даже говорящих по-французски, они защебетали:
— Ах, шарман! Шарман!
Мужчины прошли к бывшей даче Попова. Шершпинский пояснил:
— Ныне этот дом купил Асташев, но бывает здесь редко, не ремонтирует, и садовников не держит, старый скряга, всё пришло в запустение. Ну-ка, посмотрим, что там в доме?
Человек со многими фамилиями вынул из кармана набор отмычек и ловко отпер замок.
— Так я и знал! — воскликнул Шершпинский, — мерзость и запустение. Гм…Отмычкин! Вынесите вместе с Махоней и с Пахомом на поляну столы и стулья, да протрите их хорошенько. Да вытаскивайте из карет припасы. Спустите шампанское в речку, пусть охлаждается. Ваня-Бей! Разводи костер, жарь цыплят.
— Цветочки! Кандыки! Ах, шарман! — восклицали девицы, бегая по полянам.
Вынесли из карет лукошки с живыми цыплятами. Безносый Пахом отрубал
тесаком цыплятам головы, потрошил их и общипывал. А китаец мыл тушки, обмазывал острым соусом и нанизывал на вертела. Запахло жертвенным дымом жарившегося мяса. Пахом продолжал свою потрошительную работу. Вдруг какая-то быстрая тень камнем упала с небес, Пахом гундосо взвопил, потому что у него из рук был вырван цыпленок с отрубленной головой и умчался в небеса! Причем рука у Пахома кровила.
— Что это было? — удивился Лерхе.
Шершпинский сказал:
— Орел, ваше превосходительство! Мне говорили, что тут живут орлы. Вон там, на самом высоком утесе, на вершине стоит сосна, там гнездо. Говорят еще, что орлы эти кружат над заречными лугами, над борами и хватают добычу и на городских лужайках, где бродят куры.
— Девственный край! — заключил его превосходительство.
Столы составили рядом, в центре был установлен бочонок с коньяком с золотым краном. Из одной кареты вытащили несколько пальм в кадушках, и поставили возле столов, под одной из пальм посадили живую обезьяну, привязанную цепочкой. Обезьяна корчила рожи и скакала, высоко подкидывая красный голый зад.
Махоня Пахом и Ван Бэй, уставили стол яствами, где жареные цыплята соседствовали с экзотическими устрицами, и грецкими орехами. Возле столов были установлены четыре арфы. Шершпинский и человек со многими фамилиями принесли из карет ящик с венками из живых роз, закупленных в цветочном магазине Верхрадского. Все мужчины и девицы украсили свои головы этими венками.
Четыре девицы уселись возле арф, и взяли первые звучные аккорды. Под эту музыку из золотого крана в стаканы струилась коньячная струя. Первый тост был провозглашен самим господином губернатором.
Сияя белыми зубами, набриолиненными волосами и крахмальной манишкой, Герман Густавович сказал:
— Господа! Мы проводим дни в бесчисленных заботах и трудах неимоверных на благо отечества. Чтобы восстановить силы для дальнейших дел, нужна хотя бы краткая минута отдыха и забвения. Почему мы не можем отринуть всё на миг, и вообразить себя жителями древней Греции? Можем? Так давайте выпьем за древних греков, за их раскованность и любовь к жизни!
— Гатмада, ты можешь почувствовать себя древним греком? — воскликнул Герман Густавович, осушив свой бокал, и, видя, что Цадрабан Гатмада отстранил бокал с коньяком. — Не обижай, Гатмада!
Буддист, на минуту оставил свой молитвенный барабанчик и выпил коньяк. Его раскосые глаза сделались от этого еще уже.
Тосты повторялись, коричневая влага из бочонка вновь и вновь наполняла сосуды. В это время на поляну вышел кучерявый с рожками Пан в козлиной шкуре, и заиграл на дудочке. Это был один из кучеров, заранее выучивший свою роль.
Солнце пригрело, поляна вся сияла в его лучах. Герман Густавович воскликнул:
— Господа, вы помните, как проходили пиры в древней Греции? Я предлагаю одеться всем, как древние греки!
Тотчас Шершпинский раздал всем присутствующим по шелковой простыне. Он первый проворно скинул с себя все одежды, и обмотался простыней.
— Вот вам и первый грек! — весело вскричал Герман Густавович, — ну-ка, гречанки!
Девицы, жеманясь, и притворно конфузясь, скинули с себя всё французское, и стали обматываться простынями, однако же, так, чтобы места особо привлекательные для мужчин оставались не задрапированными.
Через минуту все были уже в белых накидках, из которых выглядывали их тела. Коньяк и солнце, и близость, доступность, тел. Дерни за простыню, она и слетит. Первым не утерпел Шершпинский, и сдернул простыню с одной из арфисток. И солнце стыдливо спряталось за тучи, возможно, что произошло затмение. И если бы кто-то поглядел с высоты птичьего полета, то увидел бы странное колыхание огромных белых крыльев. Или движение сугробов среди лета. Несчастная обезьянка, находившиеся вблизи от места событий, занялась обычным обезьянним непотребством.
Шершпинский дрыгнул ногой, опрокинул одну из арф, причем она свалилась на бритую голову Гатмады, и загудела и басами, и высокими нотами, словно стадо быков врезалось в толпу детей. Гатмада что-то завопил по-басурмански.
Шершпинский вспомнил вдруг про господина губернатора. Ему он подсунул самую юную "гречанку". Но под белыми простынями в сумеречном свете все волки были серы.
Эту поездку было не так уж легко устроить. Губернатору надоели княжны Потоцкие. После приключений с Акулихой, он побаивался трогать купеческих жен. Но намекал, что в наложницах особо ценит красоту и юность.
Шершпинский уговорил четырех арфисток из гостиницы Европейской, причем пришлось им изрядно заплатить. Еще четырех девиц отобрал он, объездив все публичные дома на Акимовской и Бочановской улицах. Всех восьмерых девиц Шершпинский сначала свозил на проверку к Кореневскому-Левинсону, потребовав с него письменное подтверждение того, что все девицы здоровы.
— Смотри, если что — со света сживу! — сказал он еврейскому лекарю.
Теперь можно было, не опасаясь болезней, почувствовать себя на время
жителями древней Греции. Они могли переместиться во времени и пространстве без гальванического челнока, о котором говорил поэт и чудак Давыдов.
Вечерело. Стали покусывать комары. Немой Пахом и человек со многими фамилиями были трезвее других, и кое-как развели дымокуры. Шершпинский выпил больше всех, и уже не смог следить одним глазом за своим патроном.
В какой-то момент он увидел, что Вилли Кроули и Цадрабан Гатмада отвязали обезьяну и попытались её случить с одной из арфисток. Ничего у них из этого не получилось. Обезьяна не поняла их намерений, и с дикими визгами унеслась в дебри могучей тайги.
Затем рыдал негр Махамба, которому стало жалко негров гибнущих теперь в Америке в войне между Севером и Югом. И Шерпинский подумал о негодяях мечтающих создать соединенные штаты Сибири, и заругался матерно.
Следующий просвет в помраченном сознании Шершпинского случился уже внутри дачи Попова. Он увидел себя на пыльном полу, стоящим на четвереньках. И услышал голос Лерхе:
— Мы слоники, слоники!
В это время в церквушке над могилой Попова зазвонил колокол. Он звонил гневно и страшно. И Шершпинский мог бы поклясться, что увидел в проеме двери лик самого Святого Онуфрия, покровителя золотоискателей и золотопромышленников. Старец был гневен и прокричал громовым басом:
— Вон отсюда, демоны, осквернители! Исчадья ада!