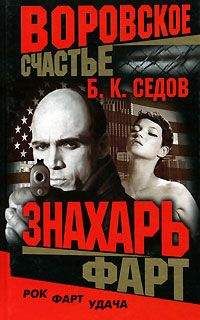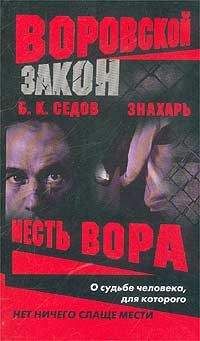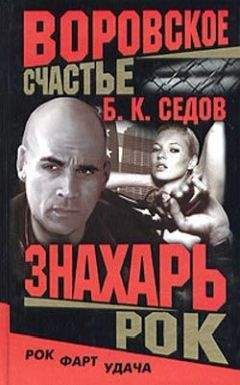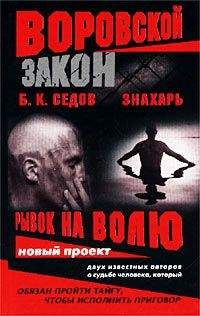Мне вдруг почему-то захотелось именно изнасиловать ее, грубо и напористо, сделать ей больно, чтобы она закричала, и неожиданно для самого себя я понял, что именно такой способ любви принят в этой стране. Здесь нужно изменять, ревновать, трахаться направо и налево, чтобы тот, кто тебя любит, с ненавистью делал то же самое с другими, а потом мстил тебе, доводя страсть до бешенства, стараясь сделать больно, и в этой боли, в этом сумасшествии похоти они черпали наслаждение, повторяя его снова и снова, множа измены и кровосмешения.
Кармен…
Не зря Кончита напомнила мне эту цыганскую потаскуху, которая свела с ума бедного солдатика, доведя его до того, что у него сперма из ушей потекла.
Животные…
Просто говорящие животные…
Страстные похотливые твари. Однако, признаюсь, в этом тоже кое-что было.
Вот, скажем, прирезал я соперника на ее глазах, он умирает, пуская кровавые пузыри, и видит, как я, завалив рядом с ним ту самую бабу, из-за которой ему только что выпустили кишки, засаживаю ей по самые помидоры, а она стонет, извивается от страсти подо мной, уже позабыв о нем, болезном, и признавая хозяином меня и только меня, а он, задыхаясь и прощаясь с жизнью, видит, как я, живой и здоровый, занимаюсь этой самой жизнью в полный рост, так, что брызги в стороны летят, и смотрю на него, и вижу, что он бессилен и никогда уже не сделает того, что я делаю сейчас с ней, а я торжествую и засаживаю ей так, что ей уже больно, а я еще, еще…
Вот такая любовь…
Стр-р-р-расти, еби его мать!
А Бизе взял да и превратил эту дрянную историю в прекрасную музыку.
Парадоксы искусства!
Я посмотрел на Кончиту и, испытывая совершенно новые чувства, чистосердечно ответил ей:
– Я думаю о том, что неплохо было бы засадить тебе так, чтобы ты умерла.
– Ах… – только и ответила она, закатив прекрасные южные глаза.
А потом нежно обняла меня за бедра, и, найдя губами мой уже ставший маленьким, мягким и совсем не мужественным член, нежно всосала его, как ягодку с торта.
– Смешное имя – Тедди, – сказала Кончита, когда взаимные сексуальные истязания кончились.
– Почему смешное? – удивился я, – нормальное, как у американского президента.
– А что, был такой президент – Теодор Буш? – удивилась Кончита.
– Знаешь ли, кроме Бушей, отца и сына, в США были и другие президенты, Теодор Рузвельт, например, великий президент, между прочим.
– Если он великий, то почему его на долларах нет? – спросила Кончита.
– Погоди еще, будет! – пообещал я. – Вот грянет в Штатах дефолт и начнется Великая Инфляция, тогда они станут печатать новые банкноты, крупные, по пятьдесят тысяч, по сто, и, может быть, даже по миллиону долларов. И на одной из них точно будет портрет Теодора Рузвельта.
– По миллиону долларов, – восхитилась непосредственная девица.
– По миллиону, – подтвердил я, – только на миллион на этот ничего не купишь…
– Почему? – вроде как обиделась она.
– Потому что дефолт! – строгим голосом ответил я. Проводить занятия по политэкономии мне совсем не хотелось.
– Я не знаю, что такое дефолт, – грустно сказала Кончита, – я вообще мало что знаю…
И потянулась губами к моему животу.
– А почему ты сказала, что Тедди – смешное имя? – быстренько переменил я тему.
– А ты не знаешь?
– Нет.
– А как Винни Пуха зовут, знаешь?
Винни Пух у меня ассоциировался исключительно с голосом артиста Евгения Леонова, но то, что в никарагуанской сельве знают такого артиста, было маловероятно, поэтому я просто пожал плечами.
– Сдаешься? – радостно спросила Кончита, ей было приятно, что она знает что-то такое, чего не знаю я, такой большой и важный…
– Сдаюсь!
– Значит, ты не читал книжку про Винни Пуха, – заявила она торжествующим голосом, – а я читала, даже два раза, и еще книжку про Пиноккио, но это давно было… Так вот, там в книжке отец спрашивает у Кристофера Робина, почему твоего медвежонка зовут женским именем Винни, это же сокращенное от Уинфред, а Кристофер Робин отвечает, Винни Пух – это его фамилия. А зовут его, как и всех плюшевых медвежат, Тедди. Понял теперь, почему я сказала, что у тебя смешное имя?!
– Понял, – ответил я.
Не думаю, что я так уж здорово похож на Винни Пуха, но что-то общее с ним у меня в это утро было. Голова, например, точно была набита опилками, а отдельные части тела – вроде как плюшевые…
* * *
За грубым дощатым столом, друг напротив друга, сидели двое мужчин.
Одним из них был я, Знахарь, фигурирующий здесь как Теодор Свирски, он же Тедди, рубаха-парень, настоящий мужик, доказавший это в процессе вчерашней буйной вечеринки, а другим – седой кабальеро Рикардо Альвец, профессиональный революционер, профессиональный наркоделец, профессиональный убийца – в общем… В общем, во всех своих ипостасях он был профессионалом.
Утренние забавы с Кончитой под струями водопада давно закончились, подошел к концу и завтрак, во время которого я имел сомнительное удовольствие наблюдать помятые и мрачные рожи как местных латинских парубков, так и своих русских орлов. Потом все разбрелись кто куда, а мы с доном Рикардо уселись за стол переговоров и, следуя некоему ритуалу, закурили.
Некоторое время мы молча пускали дым в потолок, потом я вспомнил кое-что из вчерашнего и, посмотрев на дона Рикардо, сказал по-русски:
– Дон Рикардо, помнится, вчера вы хотели рассказать мне о чем-то.
Альвец улыбнулся, отчего его загорелое лицо покрылось множеством мелких морщинок, и, мечтательно закатив глаза, ответил:
– Да, это было интересное время. Я, уважаемый Тедди, учился в Университете имени Патриса Лумумбы. Знаете такой?
– А как же! – я развел руками, – кто ж его не знает!
– Вот… А после этого четыре года провел в Краснодарском военном училище, на факультете, который особо не рекламировался. Тогда я дал кучу страшных расписок о неразглашении и чувствовал себя шпионом рангом не ниже Джеймса Бонда. Но закончилось все это весьма прозаически. А именно – после окончания курса меня отправили домой и сказали – ждать. Я ждал двадцать лет, а потом стало ясно, что ни я, ни другие специалисты по подрывной деятельности уже не нужны, и тогда я плюнул на все это. И теперь, если какой-нибудь российский офицер из спецслужб явится сюда и потребует от меня исполнения его приказов, я скормлю его аллигаторам.
Я понимающе кивнул и сказал:
– И это правильно. С ними – только так.
– Да. Вот и вся моя русская история. Ну, а теперь, Тедди, я хотел бы услышать то, ради чего вы притащились в это Богом забытое место.
Последнюю фразу он сказал уже по-английски, и я понял, что лирическое отступление закончилось.
Я кашлянул и, посмотрев на стоявшую в углу оплетенную бутыль, точную копию той, которая, наверное, до сих пор плавает в озерце у водопада, сказал:
– Если вы не возражаете…
После чего встал, взял бутыль и водрузил ее на столе между нами.
Найдя пару стаканов, я выдул из них паутину и нескольких засохших мух, протер висевшим на гвозде полотенцем и поставил рядом с бутылью.
Усевшись на свое место, я закончил прерванную фразу:
– Если вы не возражаете, то немного хорошего вина не помешает нашей деловой беседе.
Альвец снова улыбнулся и сказал:
– Честно говоря, я и сам не прочь. В России, то есть тогда еще в Советском Союзе, я научился и пить как следует, и опохмеляться по утрам.
Я понимающе ухмыльнулся и наполнил стаканы вином.
Отсалютовав друг другу стаканами, мы выпили немного вина и, закурив, я приступил к изложению подготовленной в согласии с Ритой и Наринским легенды.
– Как я уже сказал, название организации, которую я представляю, и ее главные цели не имеют значения в нашей с вами беседе.
Альвец кивнул.
– Я уполномочен изложить вам только ту часть наших планов и соображений, которая касается непосредственно вас и ваших интересов.
– А кого, позвольте поинтересоваться, вы имеете в виду, говоря «вы» и «ваши интересы»? – спросил Альвец и тоже закурил.
– Э-э-э… Я имею в виду лично вас и других таких же, как вы. А именно – повстанцев, производителей наркотиков, наркоторговцев и бывших агентов разных режимов. Причем, как я понимаю, ничто не мешает вам быть во всех этих ролях одновременно.
Альвец засмеялся и сказал:
– Смело! Смело и, пожалуй, справедливо.
– Вот именно, – подхватил я, – будет правильно, если мы сразу договоримся называть вещи своими именами. Притворяться более невинным, чем ты есть, в таком разговоре, какой у нас пойдет, бессмысленно.
– Согласен, – Альвец кивнул и глотнул вина, – итак, я вас слушаю.
– Конечно, слушаете, – улыбнулся я, – два миллиона долларов – очень хороший слуховой аппарат, и он поможет даже совсем глухому.
– Даже Бетховену? – притворно ужаснулся Альвец.
– В таких делах, как наше, – даже ему, – уверенно сказал я.
Альвец развел руками, признавая мою правоту, и я продолжил.