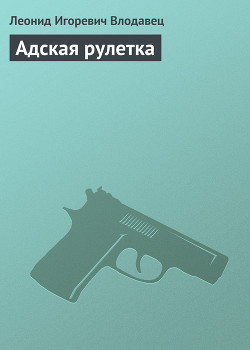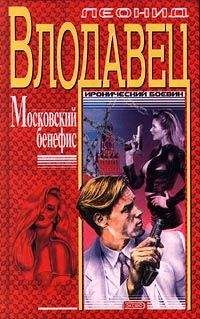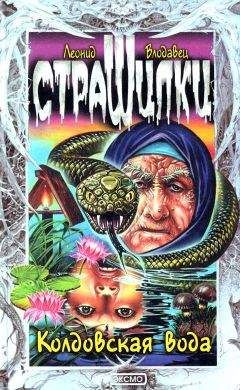Разглядывая в подзорную трубу выжженную пустыню, я внезапно услышала какой-то неясный, глуховатый, но ритмичный звук. Для ударов топором по дереву он был слишком частый, к тому же слышался он не от леса, а со стороны бухты. Звук становился все более отчетливым, и я начала вспоминать, что слышала где-то нечто подобное…
Около полугода назад О'Брайен зашел в устье Ориноко, чтобы пополнить запас пресной воды. Вода была мутная, илистая, и он велел процедить ее через мешковину и песок. Бочек было много, вода цедилась медленно, а потому работа затянулась допоздна. Майкл не хотел понапрасну утомлять своих людей, а потому решил сниматься с якоря утром. Он пришел ночевать ко мне, мы приступили к ужину и уже хотели отослать Роситу, дабы приступить к делам интимным, как вдруг О'Брайен, до того вальяжно сидевший с бокалом вина и моловший обычный вздор, которым имел обыкновение меня развлекать, встрепенулся и подошел к окну каюты…
— Боюсь, сеньора, что сегодня ночь будет весьма неспокойная, — произнесон уже не шутливым тоном. — Ты слышишь, это индейские барабаны…
Я услышала в ночи точь-в-точь такой же звук, какой доносился только что…
Та ночь в устье Ориноко была тревожной, но не более того. Хотя капитан не на шутку опасался ночной атаки индейских пирог и канониры провели всю ночь у пушек, заряженных картечью, никто к нам не сунулся. Однако неутомимый гул многочисленных барабанов, нервный, ритмичный, сводящий с ума, страшащий какой-то сверхъестественной силой, не давал мне сомкнуть глаз до самого восхода солнца. Едва рассвело, О'Брайен велел поднимать якоря и спешно покинул жутковатое место…
И вот сегодня я услышала вновь этот ритмичный гул. Правда, он поначалу был намного слабее, чем тот, что мы слышали сквозь шум прибоя, находясь в полумиле от берега. Но тот гул, доносившийся из прибрежных зарослей, был монотонный и мерный. А сейчас я явственно ощутила, что гул нарастает, приближается ко мне, неся с собой все ту же мистическую угрозу…
Он становился все громче и громче, и я поняла, что мне нужно скорее звать на помощь Роситу и Мануэля, а может быть, и освобождать из-под стражи Рамона, хотя он со своими ранами мог помочь нам скорее лишь советом. Если, конечно, захочет.
Да, гул шел с моря. Громкие удары, отражаясь от скал у входа в бухту, усиливались и становились еще страшнее.
Вскоре я увидела первую пирогу. Узкая, остроносая, раскрашенная в какие-то пестрые тона, она появилась из пролива, обогнув скалу, и стала быстро приближаться к берегу. В ней сидело не меньше полусотни меднокожих, длинноволосых мужчин, которые под ритм барабана дружно гребли веслами-лопатами с обоих бортов. Следом за первой из пролива показалась вторая пирога, затем третья, четвертая, пятая…
— Боже мой! — вырвалось у меня.
Опрометью я сбежала со стены во двор замка, бросилась в дом, на кухню… Мануэль и Росита возились у плиты.
— Скорей! — закричала я, запыхавшись. Они бросили все и побежали за мной на стену.
На берегу уже толпились индейцы, вытащившие на берег свои пироги. Там были не только мужчины, но и женщины, старики, дети. На первый взгляд, их было несколько сотен. Многие уже бродили по острову, но большинство не решалось далеко отходить от пирог, ибо их пугал, как мне показалось, вид замка, а также выжженная вчерашним пожаром земля…
— Ну и место же мы нашли! — стараясь воодушевить Мануэля и Роситу, пошутила я. — Каждый день у нас приемы! Вчера прибыли пираты, сегодня навестили дикари… Это ты нас завез сюда, Мануэлито!
— Нет, сеньора! — серьезно ответил этот глупыш. — Это лодка нас сюда привезла! А что, это и есть голландцы?
Я чуть не прыснула, несмотря на всю серьезность момента. Похоже, Мануэль никогда не поймет разницы между индейцами и голландцами!
— Нет, — сказала я. — Это индейцы. Дикари!
— Тогда в них надо выстрелить из пушки, — посоветовал малыш.
Честно говоря, я до сих пор удивляюсь, как быстро общение с белыми влияет на черных! Бабка этого черномазика еще не так давно бегала в Африке вместе с обезьянами по веткам, а он уже советует, что делать с краснокожими дикарями! Он уже знает, что по диким можно пальнуть из пушки. Впрочем, тут я виновата сама… Однако мысль пальнуть мне показалась не слишком уж плохой. Дикари народ неприятный, особенно на пустынном острове…
— Смотри за ними в трубу, Мануэль! — приказала я. — А ты, Росита, пойдешь со мной, надо зарядить пушки.
Опять, как и вчера, мы вытащили бочку с порохом, картечь, пыжи и инструменты. Мануэль тем временем сообщил:
— Они поймали белых людей, сеньора!
— Каких? — спросила я.
— Наверное, тех, с корабля…
— Сколько?
— Я вижу… один, два, три, четыре, пять…
— Пять?
— И еще есть, сеньора, только другой рукой я держу трубу и загибать неудобно…
— Ладно, тащи ведро! Наверх, Росита, живее! Пока мы заряжали пушку, Мануэль рассмотрел еще кое-что:
— Дикие люди зажгли костер!
— А белые?
— Белые… — Мануэль замялся, — белые стоят, а красные вокруг них.
— Ну и что? — спросила Росита. Мануэль не ответил.
— Что тут происходит, кузина? — услыхала я голос из-за спины. По лестнице на стену, опираясь на палку, поднимался Рамон. Для меня так и осталось загадкой, как он выбрался из заключения…
— Ваших друзей с фрегата, похоже, собираются съесть, — сказала я, указывая на берег бухты.
— Вы, стало быть, считаете, что они это заслужили? Мануэль с Роситой зарядили еще одну пушку и подошли ко второй.
— Нет, слава Богу, я христианка, — ответила я на вопрос Рамона. — Быть может, их следует повесить, а может быть, сжечь живьем, но съесть — это уж слишком.
— Дай-ка мне трубу, черномазый! — сказал Рамон, отбирая подзорную трубу у Мануэля. — Так… Прекрасно! Свежуют… Смотри-ка, забили самых худых. Вот как… Марселино, стало быть, а также этого скрягу по кличке Полпесо. Оба прохвосты, каких мало, туда им и дорога! А Альберто Карриага, наверно, будут к празднику откармливать… Половины его окорока хватит, чтобы все племя нажралось до отвала…
— Господи! — воскликнула я. — Да вы изверг, изверг рода человеческого, Рамон!
— Нельзя так говорить с доньей, — сказал Мануэль очень строго. — Хоть она и ваша кузина…
— А ты, черномазый, помалкивай! — сказал Рамон, сплевывая со стены в ров.
— А то нырнешь со стены, понял?
— Донья Мерседес, — произнес Мануэль, — а застрелить его еще нельзя?
— Что значит «еще нельзя»? — опешила я от простоты, с какой был задан этот вопрос.
— Значит, можно, да? — просиял Мануэль и выхватил пистолет. Ребенок со вчерашнего дня явно вошел во вкус. Надо было видеть, как побелело у Рамона лицо. По простодушию, с которым Мануэльчик захотел его пристрелить, этот верзила понял, что негритенок не шутит… Ни бежать, ни защищаться Рамон не мог, все же он был ранен.
— Пока нельзя, — сказала я, — видишь, Мануэльчик, он ранен. Раненых грешно стрелять…
— Мерседес, — серьезно сказал Рамон. — Я видел тысячи смертей. На моих глазах не язычники христиан, а христиане христиан рубили, резали, душили, кололи, пристреливали, жгли, варили в смоле и кипятке… А этих мерзавцев, эту дрянь стоило сожрать. Они сами людоеды… Да, да, дорогая кузина, не удивляйся, пожалуйста! Они ели людей, и я ел людей, представь себе! Четыре года назад.
Я начала молиться, просила Деву Марию и всех святых простить раба Божьего Рамона, простить меня за то, что я с ним в родстве, наконец, успокоить душу убиенных христиан… А Рамон принялся гоготать, он смеялся как умалишенный, и мне вдруг почудилось, что и я схожу с ума…
— Сеньора! — испуганно вскрикнула Росита. — Они идут сюда!
От толпы дикарей, орудовавших на берегу, отделилось несколько десятков мужчин, с копьями и луками. Они неторопливо направились в нашу сторону, перешагивая через обгорелые стволы поваленных пожаром и ветром деревьев.
— Идут, — перестав смеяться, сказал Рамон. — Должно быть, у них туговато с провиантом… Зажигайте пальник, кузина, и да поможет нам Бог!