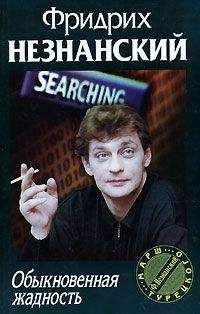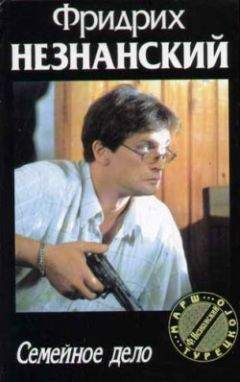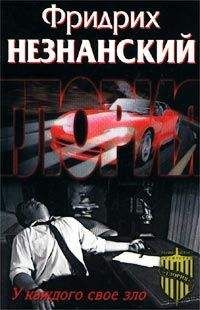Ознакомительная версия.
Увы, и Мартуся не спасла своего старшего брата от призыва: тогда была еще жива родная тетка Белецких, сестра покойной матери. И к ним она переехала сразу после гибели сестры. Словом, в армию Белецкий не просто «загремел» не со своими одногодками, а угодил прямиком на первую чеченскую. Не помогли ни слезы тетушки Инны Ильиничны, обивавшей пороги военкомата, ни генеральские связи старшего Баканина: сам он в тот момент как раз и находился все в той же Чечне, а в его отсутствие упомянутые связи не сработали… С точки зрения районного военкоматовского начальства, Роман Антонович Белецкий был типичным злостным уклонистом и должен был теперь не просто исполнять свой гражданский долг, а еще и «вину» замаливать… Очередная, только что раскалившаяся горячая точка подходила для этих целей как нельзя лучше!
Свои военные годы вспоминать Роман не любил — в отличие от большинства сослуживцев. Однако и судьбу за то, что Чечня стала фактом его биографии, тоже не упрекал, несмотря на два ранения и одну контузию, после которой и был признан негодным к дальнейшему прохождению службы по категории «В». То есть в дальнейшем Белецкий подлежал возвращению в армейские ряды исключительно в случае прямого нападения некоего мифического врага на Россию… Собственно говоря, дембель к тому моменту большого значения для Романа уже не имел, поскольку позади у него остались почти все те же два года службы без каких-то полутора месяцев. Правда, последние полгода ему довелось провести в Ивановском госпитале, о чем вспоминать он не любил тоже и, бог весть почему, вдруг вспомнил сейчас, когда желтое такси мчало его в сторону Шереметьево-2 сквозь пустую предрассветную Москву…
Звонок в доме Белецких раздался примерно полчаса спустя после того, как началось путешествие Романа. Уснувшая наконец Мартуся его не услышала. Зато Анна Васильевна, не собиравшаяся больше укладываться и занявшаяся стиркой, несмотря на удивление, — кого это могло принести в такую рань? — открыла все-таки сразу, решив, что «принести», кроме соседей, рядом с которыми прожила почти сорок лет, не могло никого… И тут же отшатнулась от распахнутой двери: на пороге стоял совершенно незнакомый мужичонка. Не то чтобы амбал, но и не хлипкий. Женщина рефлекторно схватилась за сердце, однако незваный гость заговорил раньше, чем она успела всерьез испугаться:
— И сколько я еще ждать-то должен?! — На физиономии мужика читалось искреннее возмущение. — Двадцать минут жду, жду… У меня сегодня еще пять заказов в разных концах, и все за город!..
— Вы… кто?… — Анна Васильевна тяжело сглотнула, ничего не поняв из его возмущенного бормотания.
— Как это — кто? Таксист я… Белецкий Роман Антонович тут живет?… — На лице водителя мелькнула неуверенность.
— Т-тут…
— Заказывали?…
Анна Васильевна молча мотнула головой, а таксист в сердцах сплюнул, правда чисто условно.
— Шутнички их, твою мать… Может, ты, бабусь, не в курсе? Где сам-то?…
— Да уехал он, — пришла наконец в себя Анна Васильевна. — Уж минут сорок, как уехал, а такси мы отродясь не заказывали, сейчас тоже не заказывали, так что иди-ка ты, милый, по своим делам!..
Она в сердцах захлопнула двери перед носом продолжавшего возмущаться водителя и для верности накинула крючок, болтавшийся тут с незапамятных времен. После чего, покачав головой, вернулась в ванную к затеянной стирке, так и не поняв, с какой стати заявился к ним этот таксист: может, Рома и правда заказал его, а потом позабыл? Да нет, это вряд ли… Как ни крути, ни верти, а по всему видно — вышла обыкновенная ошибка.
Спустя еще час в глубине большой, богато обставленной квартиры в центре Москвы тоже раздался звонок. Только не в дверь: заливался долгими, настойчивыми звонками телефон. Квартира находилась в большом «сталинском» доме с толстыми стенами, поэтому хозяйка, принципиально не державшая аппарат в спальне, среагировала далеко не сразу. Но невидимый абонент, прекрасно знавший ее привычки, не отступал, и в итоге Софья Эдуардовна Соркина с тяжким стоном и огромным трудом приоткрыла тяжелые, набрякшие веки, толком не понимая, что именно ее разбудило.
С минуту она вслушивалась в настойчивые, длинные гудки, прежде чем, сообразив наконец, что к чему, продолжая постанывать и кряхтеть, начала выбираться из-под пухового немецкого одеяла.
— Соня? — Приятный мужской голос прозвучал в трубке прежде, чем она успела что-либо произнести. — Ты как — получила?
Сон слетел с женщины моментально и окончательно:
— Если ты имеешь в виду эти гроши, то — да, еще позавчера!
Софья Эдуардовна сразу же начала говорить на повышенных тонах и от этого закашлялась. В горле саднило то ли после вчерашнего вечера, то ли просто не следовало так напрягаться со сна. Но иначе она не могла, обида, вспыхнувшая сразу, как только ее двоюродный братец заговорил, охватила все существо женщины.
— Соня, ты не права, — мягко возразил он, — ты должна понять ситуацию, ты же знаешь…
Голос ее собеседника звучал так ясно и отчетливо, словно и не было между ними немереных тысяч километров суши и океана.
— Что — что я должна понять?! — теперь и она говорила отчетливо, ничуть не уменьшив напор. — Да я этих твоих сопляков еще двадцать лет назад во всяких видах видела! А ты хоть знаешь, что одна квартира, все еще, между прочим, ваша, стоит мне уже почти триста баксов, а?! Я что, по-твоему, на оставшиеся двести должна существовать?… Да ты хоть представляешь, что у нас тут с ценами творится? Да мне этих сраных грошей только и хватит, что на хлеб да воду, даже на лекарства не останется… Ты слышишь меня?!
— Слышу, Соня. — Мужской голос стал заметно холоднее. — Но и ты меня выслушай… Я понятия не имею, как вообще сказать обо всем Джине…
— Чхала я на твою Джину! — почти взвизгнула, перебивая, Софья Эдуардовна.
— Я же просил — выслушай. — Холод в интонациях кузена сделался настоящим льдом, и она примолкла. — Так вот… Посылать тебе прежнюю сумму я действительно не смогу по меньшей мере года два, а там видно будет… Ну, возможно, еще пару сотен накину, но это — все. Ты меня поняла?
— Я тебя еще в прошлый раз поняла. — Софья Эдуардовна всхлипнула, а он, услышав это, вздохнул и заговорил чуть мягче:
— Сонечка, уж кто-кто, но ты действительно должна понять, ты же всегда относилась к ребятам… м-м-м… я бы сказал, очень хорошо…
Женщина насторожилась, пытаясь понять, не издеваются ли над ней. Но мужчина продолжил абсолютно спокойно:
— Пойми, дело даже не в той, фактически детской, клятве. И даже не в чести и совести… — В этом месте она не сдержалась и фыркнула. — Можешь не ерничать, для меня эти понятия, как, возможно, это тебе ни удивительно, все еще живы! Но, чтобы ситуация стала тебе доступна, попробую выразиться на другом языке…
— Если ты имеешь в виду эту дурацкую расписку, то ты еще в прошлый раз говорил, — снова всхлипнула она, — и я тебе сразу ответила, что никакого значения она не имеет.
— А вот тут ты ошибаешься, — возразил он. — Еще как имеет, во всяком случае, у нас! Соня, я действительно накину две сотни, сегодня же… Нет, сегодня уже поздно, завтра мне ехать в аэропорт встречать Ромку…
— Ты что же, не можешь поручить кому-нибудь из своих секретуток? Ты же всегда…
— А вот теперь не могу! — нервно возразил он.
— Из-за Джины? — догадалась Софья Эдуардовна. — Ну почему ты позволяешь этой рыжей кошке соваться в твои дела?!
— Ты знаешь почему, — сухо ответил Леонид Ильич Славский и, распрощавшись, положил трубку.
Еще раз, уже чисто автоматически всхлипнув, женщина тяжело поднялась из глубокого кожаного кресла, сидя в котором разговаривала с кузеном: к своим нынешним сорока восьми годам когда-то изящная Сонечка-оторва, как ее частенько называли тогда подружки и дружки, превратилась в грузную, старую женщину, которой с одинаковым успехом можно было дать и пятьдесят, и порой даже все шестьдесят — например, в такие дни, как сегодняшний, после вчерашних возлияний в обществе старого приятеля, едва ли не единственного из Сониных знакомых, не побывавшего в ее постели.
И дело было вовсе не в том, что в любовники ей не годился он по молодости лет, уж это-то Сонечку не смущало никогда! Не годилась на упомянутую роль, увы, она сама… По крайней мере, в последние десять лет — точно.
Софья Эдуардовна вышла из кабинета, когда-то принадлежавшего отцу Леонида, и, миновав длинный коридор, вошла на кухню. Поморщившись при виде стола с остатками вчерашних посиделок и раковины, в которой высилась гора немытой посуды, она на ходу включила электрочайник и, открыв буфет, извлекла оттуда банку кофе. Софья Эдуардовна предпочитала растворимый вариант этого напитка. Не столько сообразуясь с собственными вкусами, сколько от непреодолимой лени, свойственной ее натуре.
Хлопотать вокруг мельницы, пусть и электрической, и джезвы означало для Соркиной совершать лишние движения, а значит, напрягаться. Вот чего она терпеть не могла всю жизнь, так это напрягаться! Софья Эдуардовна всякий и всяческий труд ненавидела столь глубоко и искренне, что за всю свою жизнь не работала ни одного дня…
Ознакомительная версия.