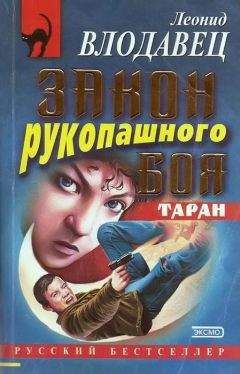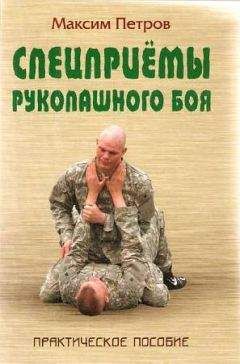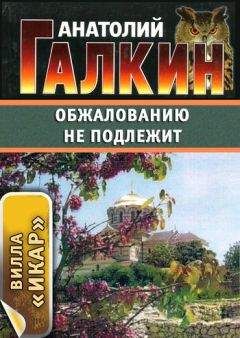— Много, брат. На Москву в старопрежние времена басурман чуть ли не каждый год приходил.
— Дедушка Клещ меня к генералу Муравьеву в дом посылал, план добывать. На нем ходы все описаны.
— Иван Юрьич зело усерден был, — с легкой иронией заметил Никодим, — жив ли сейчас?
— Живой, сказывали, от француза в деревни уехал.
— Ну и слава тебе, господи, — сказал монах. — Добрый барин и в науках силен. Только верой не крепок, сдается. От учения наук немецких да французских вера тратится.
Шли часа два. Ход вел все дальше, не разветвляясь. Говорили мало — не о чем было. Опять же Никодим, как видно, к долгой ходьбе без отдыха был уже негож. И дышалось ему в подземелье похуже, чем на вольном воздухе, и ноги уж состарились.
— Передохнем-ка, — сказал Никодим, стараясь унять одышку.
Посидели на корточках, прислонясь к стене, минут пять, и отец Никодим велел:
— Ну, перекрестясь… Еще шагов сто — и на развилку выйдем, а там уж недолго будет.
И тут в свете фонаря, шагах в десяти впереди, на серых камнях мелькнуло неясное темное пятно. Подошли, рассмотрели…
Агап охнул. Это была шинель с убитого француза, которую надел на себя Клещ поверх армяка. Шинель была насквозь мокра. Но крови на ней видно не было. Еще через двадцать-тридцать шагов нашелся и сам Клещ. Лежал, задрав бороду, будто покойник, но при этом тяжко дышал.
— Дедушка! — заорал Агап, подбегая к старику. Сзади, постукивая костылем, шел Никодим.
— Чего орешь? — грустно улыбаясь, вымолвил Клещ бледными, почти белыми губами. — Ори не ори, брат, с того света не выкричишь… А я, чаю, уж на одну треть туда перебрался. Ног обеих по колено не чую. Сила вся ушла. На злости еще живу.
Приковылял Никодим.
— Жив, щучий сын? — воскликнул он.
— Игнаха… — посветлел лицом Клещ, и в глазах его проблеснула слезинка. — Ты уж не сам ли с того света?
— Был, да от службы отставили, — ответил Никодим-Игнаха. — А ты, атаман, моложее моего, а вишь — собрался уже… А ну, Агап, подымай его. Поведем к Марфушке, подружке дорогой. Так ли?
Агап взял Клеща на плечи, взвалил на спину, как чувал, понес.
— Не верю, что ты живой! — приложив щеку к затылку Агапа, сказал Клещ Никодиму-Игнахе. — Меня ведь Кузя Верещун когда в Гижиге продал, так говорил, будто ты в Нерчинском руднике прикованный помираешь.
— Был я там… — кивнул Игнаха.
— Убег? — спросил Клещ.
— Убег, — кивнул Игнаха, тряся бородой. — Поманит воля, так цепь не удержит.
— Значит, врал Кузя, что клеймили тебя? — прошептал Клещ.
— Да нет, не врал. Так впаяли на лбу «ВОР», что и по сю пору бы светил… Да Марфа твоя выручила.
— И кнутом били?
— И его испробовал. Три ремня из моей шкуры вырвали… Зажило, однако. Науки я постигал, дух крепил, хотел знать, что до нас на Руси было. А об тебе я знал от Лукьяна.
— Вот стервец! — Клещ ерзнул на закорках у Агапа и чуть не повалил его. — И молчал? Так он, выходит, уж тогда знал все?
— Знал. Но он мне крест целовал, что не проскажется. Даже тебе. А вот мне он о тебе все говорил как на духу. Так что прости, брат, что поздненько я тебе явился.
— И давно ты в Москве-то?
— Давненько. Раньше меня только Лукьян сюда добрался. Я ведь двух лет в рудниках не пробыл — думал, на Яик прибегу, сызнова подпалю все… Ан хрен те в щи! Скурвились казаченьки, языки прижали, а к иным и не сунешься — сдали бы в два счета.
Никодим-Игнаха сердито плюнул сквозь щербатые, погнившие зубы.
— Зло кипело. Вроде где не послушаешь — так нее Катьку ругают да бар пожечь грозят, покуда пьяные. Метелкина ждут, вишь ты. А скажешь, что Метелкин — я и есть, не верят али боятся. Вот и пошел в Москву.
— А «ВОРа»-то как сняли?
— Да говорил же — Марфа твоя. Она мне и рубцы свела со спины, и еще на путь истинный наставила. Молюсь о здравии ее еженощно.
— Марфа-то знала, кто ты есть? — спросил Клещ.
— Нет. Я ей ни Метелкиным, ни Заметаевым не назывался. Иван Пузырев я был по бумаге, покуда постриг не принял. С той поры — Никодим, и все. Умер для мира.
— Ой ли? — прищурился Клещ, лицо которого заметно пободрело и порозовело от разговора со старым другом. — Однако с Лукьяном-то знался, отец святой…
…Через полчаса они взошли по лестнице и постучали тройным условным стуком в дверь Марфы.
Себастиани пропах дымом. В воспаленных глазах словно бы отражалось пламя московского пожара.
— Господин граф, многое проясняется, — сказал он, обращаясь к Коленкуру. Де Сегюр и Лористон, рывшиеся в бумагах императора, подняли головы. На лицах их выразилось высочайшее внимание.
— Маркитанта Палабретти найти не удалось. Похожего человека видели поляки из эскадрона того самого лейтенанта Ржевусского, о котором беспокоился человек, поднятый нами из шахты.
Далее, задержана компаньонка Палабретти, маркитантка Луиза Пьеррон, по кличке Крошка, а вместе с ней — русская цыганка Настази, подозрительно хорошо говорящая по-французски. Человека, похожего на Палабретти, и упомянутую Крошку поляки видели в доме, принадлежащем русскому отставному генералу Ивану Муравьеву. Вчера, примерно в три часа пополудни, туда явился некий русский крестьянин лет двадцати, представившийся крепостным Муравьева, и объявил, что хозяин прислал его за бумагой, спрятанной под порогом спальни. Когда поляки нашли в указанном месте план московских подземелий, они по приказу лейтенанта Ржевусского решили препроводить крестьянина в штаб полка для производства дознания. Однако вблизи церкви Святой Неонилы, прямо напротив штаба, двое неизвестных в упор застрелили конвоиров, освободили задержанного мужика и похитили план. Один из нападавших, по описанию поляков, седой казак с большой бородой, ускакал на коне, куда девались двое других — неизвестно. Во время погони за казаком несколько улан были убиты, а лейтенант Ржевусский — пропал бесследно…
— По-моему, дело не столько проясняется, сколько запутывается, — заметил Лористон в тот момент, когда Себастиани решил перевести дух.
— Напротив, — возразил Себастиани, — все очевиднее становится, что мы имеем дело с русскими шпионами.
— Вот как! — Де Сегюр устремил взгляд на генерала.
— Да, месье. В заговор были вовлечены Палабретти, Крошка, лейтенант Ржевусский и, вероятно, кто-то еще из его офицеров. Два или три шпиона, оставленные русскими в городе, им помогали. Очень может быть, что одна из них — цыганка Настази, говорящая по-французски.
— Но Крошка и эта цыганка уже задержаны? — спросил Коленкур.
— Да, они в соседней комнате под охраной гвардейцев. Я думаю, что они нуждаются в очной ставке с человеком… которого мы сейчас называем императором.
— Значит, сир… — побледнел де Сегюр.
— Не торопитесь с выводами.
— Надо сначала осведомиться у врача, в каком состоянии пребывает… — Лористон несколько запнулся, — предполагаемый император.
Врач оказался легок на помине и уже входил в комнату.
— Он в сознании, — доложил медик. — Спросил, отчего пахнет дымом. Я сказал, что за ночь пожары очень усилились…
— Какова была его реакция? — спросил де Сегюр.
— Он сказал: «Должно быть, наши солдаты были неосторожны…»
— Он не называл себя Палабретти?
— Нет. Настроение у него скорее бодрое, чем подавленное. Простуда почти прошла.
— Благодарю вас, сударь, вы свободны. Впрочем, желательно, чтобы вы побыли достаточно близко от его величества.
Врач поклонился и вышел.
Лористон прошелся от стола на середину комнаты, повернулся кругом, бряцнув шпорой.
— Ну, я полагаю, что пора вызвать мадемуазель Пьеррон. Цыганку пока оставим в покое.
Гвардейцы ввели бледную и перепуганную Крошку. Так близко столь высоких особ она еще не видела.
— Прошу вас сесть, мадемуазель Пьеррон, — сухо пригласил Себастиани.
Крошка присела на краешек стула.
— Вы имеете маркитантский патент, мадемуазель?
— Да. Вы можете справиться у командира полубригады или у бригадного генерала.
— Это успеется. Алессандро Палабретти также?
— Да, месье. У него все в порядке.
— По докладу из нижестоящих штабов вы были задержаны вместе с цыганкой за хождение по городу в ночное время, не зная пароля. Что вы делали на улице?
— Мой генерал, я готова рассказать все! — воскликнула Крошка. — Клянусь, что ничего, кроме правды, вы от меня не услышите!
— Именно этого мы от вас и ждем.
— Да, но для этого мне нужно очень много времени.
— Мы будем терпеливы до определенного предела.
— Я начну с самого начала. Позавчера днем мы с Палабретти заехали с фурой во двор дома, куда потом приехали польские уланы.
— Зачем, простите? — испытующе прищурился Себастиани. — Вы собирались мародерствовать?