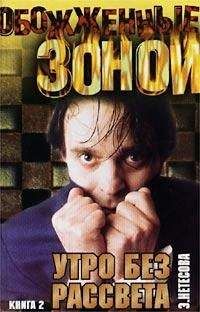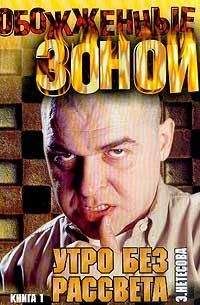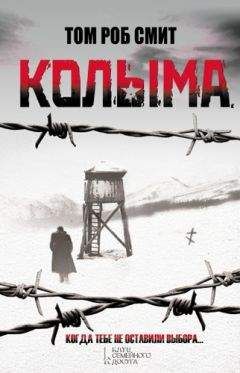Дедок каждой собаке отмерил ее порцию безошибочно. Как-никак на кухне работает. Научился людей не выделять… И также торопливо ушел.
«Президент» тяжело вздохнул. Яровой отвернулся от окна.
— Вот и поговорил я с вами, — вздохнул Степан. И вдруг, словно что-то вспомнив, добавил: — Торопиться мне надо. Пора, начальник уверен, что я сюда не приходил. Сказал я ему, что времени нет. И вы не проговоритесь, — попросил он Ярового. Тот головой кивнул в знак согласия. Но потом, словно спохватившись, спросил:
— Послушай, Степан, а вот почему ты, зная Виктора Федоровича так хорошо, не доверяешь ему? А мне на первом же дне все рассказал?
«Президент» покраснел, смутившись.
— С вами делить нечего. Вы мне не враг, в шизо не посадите. Пайку ни уменьшить, ни увеличить не сможете. А вот начальство… У него характер переменчив. Дадут ему в области выговор — он нам гайки закрутит. Начнет по-бондаревски. Тот тоже не сразу зверем стал. А вас мне опасаться ни к чему. Я сам хочу, чтоб вы убийцу поскорее нашли. Уж коль убить решился, так и на суде не оплошает. Все о Бондаре и Скальпе расскажет. Послужит зэкам. Может, большое начальство, узнав подноготную, и с наших начальников не только план будет требовать. Может, Бондаревых по лагерям поубавится. Виноват зэк — наказывай, суди, если надо. Но не отнимай здоровье и жизнь. Здесь мы все поняли, что суд и благом бывает. Там хоть выслушают, всякие смягчающие обстоятельства во внимание возьмут. А хуже самосуда — ничего нет…
— Умер Бондарев, — тихо сказал Яровой.
— Умер?
— Да.
— Когда же это?
— Позавчера.
— Вот как! Слава богу! Наконец-то! Надо пойти кентов порадовать!
— Разве ты ничего мне больше не скажешь?
— Почему вы сразу мне не сказали? Ведь мы здесь одного боимся — его возвращения сюда! — открыто радовался Степан. И, потирая от волнения громадные руки свои, добавил: — Хорошую весть вы нам привезли. Долгожданную. Спасибо вам.
Яровой опустил голову. Ему стало грустно, что вот так откровенно, ничуть не стыдясь и не скрывая, радуется человек смерти другого. Открыто. Перечеркивая нужность ушедшей жизни.
Подумалось: может, и обо мне кто-то так же скажет. Может, и я кому-то камнем на дороге стою. Может, услышав о моей смерти, кто-то тоже руки потирать начнет. Пусть не так откровенно, на виду. Пусть в душе. Но разве это по-мужски? По-человечески?.. Яровой глянул на Степана. Тот, растерявшись, глядел на него. Видно, понял ошибку.
— Не смерти его я рад. Точно так же радовался бы, узнай, что он жив, но ушел на пенсию, или убрали его из этой системы. Я рад, что г мим его подлости, злость его умерли. Все черное. Что никого уже он не обучит своим грязным методам работы. Вот что важно для нас! Что ничья человеческая душа не воспримет больше его советов, опыт не переймет. А жизнь его что? Она все равно ничего не стоила. Даже в наших глазах. Сколько раз я мог ее оборвать! Но не стал. И не из трусости! Сумел бы как-нибудь справиться! Но решил, что пусть уж все по фортуне! Как она! Меня судьба пощадила, даже из его рук живым вышел. Но и его. Тоже! Сам сдох, наверное! Своей смертью! Никто не помог. Не напомнил перед кончиной о его грехах. Спокойно отошел! Сам-то скольких тут… Гад ползучий! — по лбу Степана мот крупными каплями стекал, лицо тряслось. Яровой понял, что тот находился на грани нервной истерики, шока от полученной вести. Яровой налил в стакан воды. Протянул «президенту». Тот выпил залпом.
Мгновенное возбуждение у Степана сменила слабость. Он еле держался на ногах.
— Еще воды? — заторопился Яровой.
— Нет, я выйду! — вывалился в дверь «президент».
Яровой видел: согнувшись в коромысло, мучается Степан на снегу. Его рвало.
Горе он перенес спокойно. Лишь седел потихоньку, незаметно для других. Боль терпел молча. Стиснув зубы. А потом привык и перестал замечать. Вошла в привычное состояние. Голод так часто сушил его желудок, что еда давно перестала быть потребностью. Холод проморозил его насквозь, и радость стала восприниматься только вот так, через боль и муки. Уж слишком редкой была эта гостья в его жизни. И отвык от нее человек. Совсем отвык. Внезапное ее появление ломало «президента» не менее, чем лютое горе.
Вот он вырвал у снега холодную горсть. Запихнул ее в рот. Потом еще две пригоршни. Их к вискам приложил. Голову натер, и вздохнул легче. Свободнее. Встал на ноги. Едва заметно пошатываясь, пошел к баракам, расстегнув на груди телогрейку, чтоб легче лишалось, чтоб радость другим передать в полный голос.
Яровому в это время свое вспоминалось. Там, в самолете, когда наока-чукчанка увидела сверху собачью упряжку, — стала рассказывать внучке сказку:
«Жил-был на свете один бедняк. Такой бедный, что во всем стойбище не было ни у кого более старого и дырявого чума, чем у него. Ни ружья, ни оленя он не имел. И кушал только юколу, которую готовил летом для себя и собачек сразу. Они и были его отрадой, его друзьями. Собачек было много. И все старые, как сам бедняк. Чукчи стойбища частенько посмеивались над бедностью старика и никто из них никогда не пожалел его, не помог. Никто даже на праздники не дал ему и куска мяса. И вот однажды выдалась злая зима. Много пурги и снега наслал на стойбище всевышний. Большие морозы наступили в тундре. Такие, что даже в чумах от них дышать было больно. Лег бедняк в своем чуме— сил уже не стало в горы идти умирать, — и решил здесь отдать свою душу всевышнему. А пурга снаружи кричит, будто все жители стойбища собрались к пологу и ругают старика, что, умирая в чуме, он забот; им доставляет. Ведь когда человек не успел уйти в горы, все стойбище должно перекочевать в другое место, чтоб другие души всевышний не забрал к себе на небо. А если зима стоит, то кочевать ох как трудно!
Снег чумы доверху занес, по самые макушки. И вдруг чует старик — тепло ему стало. Совсем тепло, как летом. Или в жаркой кухлянке у костра, когда горячие угли весь жар свой отдают человеку.
Подумал бедняк, что он умер и всевышний греет его у своего дымника; сейчас, наверное, олениной угощать начнет. И обрадовался старик от счастья такого. Оленины уже столько зим не ел, сколько пальцев на руках. И решил посмотреть, каким куском его кормить начнут. Открыл глаза и видит, что не у всевышнего он. Не на небе. А в своем чуме. А по бокам у него и на груди — собачки лежат. Сами греются и хозяина греют. Обрадовался бедняк, что такие умные у него собачки и решил отдать их на зиму кому-нибудь из стойбища, чтоб не умерли с голода. Ведь запас юколы к концу подходил. Скоро совсем нечем станет кормить собак.
На следующий день, когда пурга закончилась, вышел старик из чума и стал людей сзывать. Те остановились послушать, что он скажет, а сами на дырявые канайты[20] его пальцами показывают. Смеются, что, мол, умного сможет он сказать? Наверное, помощи будет просить у стойбища? И решили уйти. Но старик, увидев это, заговорил:
— Люди тундры! Жители стойбища!Яобращаюсь к вам в последние часы моей жизни. Вы все знаете меня давно. Так давно, что память ваша о моем добре так же состарилась, как мой чум. И стала такой же дырявой. Здесь я тоже не всегда был стариком и слыл самым удачливым охотником. Полог моего чума был всегда открыт для любого из вас, будь то шаман или последний бедняк. Я никого не выгонял и всегда помогал любому. Вы знаете, у моего очага всегда было мясо. И я поровну делил его с вами. И никогда ничего не просил от вас взамен. Если я говорю что не так, пусть меня накажет всевышний!
Жители стойбища, что слушали старика, головы опустили. Верно он говорил. Щедрым слыл этот человек. А старик между тем продолжал:
— С годами удача отвернулась от меня. И к старости совсем покинула. Моя жена не оставила мне сыновей, какие грели бы мою старость и дали бы в немощи хоть старую кость. Вы знаете, никого у меня нет, кроме моих собачек, но и их мне теперь нечем стало кормить. Я не могу взять их с собою в горы умирать. Они кормили меня. И я прошу вас взять их к себе на зиму, чтобы они не умерли с голоду. Они еще смогут кормить не только себя, а и вас. Я прошу вас об этом для того, чтобы спокойно уйти в горы к всевышнему и знать при том, что мои собаки не одичают, не будут голодать, а станут жить у вас. И помогать вам.
— Что могут твои собаки? Они такие старые, как луна. А силы у них не больше, чем у мыши. Они только есть будут за целую упряжку ездовиков, а толку от них не будет никакого! — рассмеялся один молодой парень.