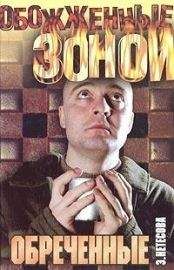Лидку, словно кто вышиб от стола. Спотыкаясь, она бежала к Оське. По щекам слезы рекой текли, а широкий рот улыбка до ушей растянула. Мужик все слышал. Сиял от радости.
— Вернитесь. Тут подпись ваша нужна, что вы ознакомлены с постановлением о прекращении против вас уголовного дела, — остановил бабу следователь.
Лидия расписалась. Следователь прочел это постановление всей ее бригаде, его слышало все Усолье, каждый ссыльный, затаив дыхание.
Им верилось и не верилось, что через столько лет и в их село заглянула правда. Пусть через муки, краем глаза, робко, словно примерившись, сделала первый свой шаг… Но он был таким долгожданным и дорогим, таким нужным, что даже шапки с голов поснимали старики, крестясь, Бога благодарили. Наконец-то увидел, услышал их…
Когда следователь звонко щелкнул замком портфеля, спрятав в него бумаги, к ссыльным подошел начальник милиции, ожидавший свое время:
— Я насчет свеклы. Сегодня Васильев вернулся из командировки. Мы с ним говорили. На этой неделе совхоз возместит вам убытки по желанию. Свеклой или деньгами. Ну, а виновного искать будем. Пока не удалось установить. Самим в совхоз пока приходить не стоит. С делом этим дайте разобраться. Чтоб не случилось чего, — предупредил ссыльных и спросил:
— Так что мне Васильеву ответить?
— Свеклу пусть даст, — уверенно сказал за всех Гусев, довольный исходом.
Ссыльные молча согласились. Никто не возражал.
Люди, приехавшие на милицейском катере, спрашивали ссыльных о жизни, работе, о том, за что они попали сюда?
Кто они сами, зачем приехали, ничего не сказали. Только спрашивали. Ответы иные записывали. Пробыли с усольцами часа три и ушли на катер. Словно и не было их здесь. Ничего не обещали, не обнадеживали. Не ругались и не возмущались, слушая ответы ссыльных, но усольцам с того дня легче дышаться стало. Хоть кто-то ими интересуется, хоть кому-то нужны. Просто так это не бывает. Значит, на горизонте засветила надежда, надо ждать перемен…
В тот день, когда милицейский катер отчалил от берега Усолья, ссыльные впервые в жизни не послали ему вдогонку проклятья.
Сбившись в кучу, долго, возбужденно обсуждали необычный приезд, гадали, что бы он мог предвещать.
Оська, по своему обыкновению, едва страх за Лидку прошел и колени дрожать перестали, сказал скрипуче:
— Эти фрайера, как глянули, что серед нас ни одного путнего нет, одна пердежь старая, решили смыться отсель вовремя. Тут ни сажать, ни освобождать некого. Единая труха, не люд. Вот и поспрошали, за что же это говно сюда пригнали? Кому оно поперек пути легло? Поди, ныне диву даются…
На Оську незлобиво заругались. И обозвав плешивым, ощипанным, потерянным Лешаком, посоветовали не высовывать свой язык на людях-.
А вечером, вернувшись домой из кузни, Оська непривычно долго молчал. Он тоже, как и все, думал о приезде людей в село.
— Зачем это им понадобилось? Ведь не от нечего делать? Такого не бывает. Но и ему не ответили приезжие, кто такие и зачем пожаловали в Усолье?
И только Лидка радовалась откровенно. С нее сняли обвинение. Она не подозреваемая, не подследственная. Она уже не вредитель. Это доказано. И можно развязать собранный узел. Разложить вещи по местам. Она осталась дома! В Усолье! Женой! Бабой! При своем рыжем Лешаке, самом лучшем в свете! — радуется баба своему нелегкому, горькому счастью. Скажи, что кто-то бывает счастливее ее, никогда бы не поверила.
— Эй, чучело огороднее, пугало с погоста, сторожиха параши, когда хавать дашь? Чтоб тя черти в задницу бодали! — потребовал Оська, и Лидка тут же заторопилась накрывать на стол.
Баба сияла от счастья. Она — дома! Она ссыльная! Не зэчка…
— Ты, полудурок, больше на рыбокомбинат не суйся. Ногой туда не ступай. Не то мослы из задницы повыдерну! Сколько я из-за тебя, облезлой крысы, натерпелся и пережил, — признался Оська Лидке в любви впервые. Та маковым цветом зарделась. В один день столько радостей, даже не ждала…
— Ты, знаешь, я приметил что-то. Но только не вякай про то никому покуда. Это мое. Может и зряшное. Но все ж, не слепой… Ты, рваная галоша, помнишь иль нет, что опосля меня в Усолье никого не завезли. Ровно я этот берег для других, на замок за собой закрыл. Не шлют, не везут боле. Спроста ли такое?
— Небось на воле сажать стало некого. Одни чекисты и партейцы остались. А ворон ворону глаз не выклюет, — ответила баба.
— Ну и дура! Вовсе не то. Но тебе, облезлой курице, чего говорить? Едино, не скумекаешь, что-то затевается, если к нам с разговорами приезжать вздумали. Иль они наших дел, что в сейфе лежат милицейском, век не открывали? В то я не поверю. Наскрозь, поди, изучили. Но, чему-то не поверили. Что-то надо… И ссыльных не стало больше. Кумекай, дура! Иль все мозги тебе поморозило насмерть?
— Оська, зараза! Веник обтрепанный! Харя, ты, свиная! Чего цепляешься? Да с меня моего хватает. Я рада тому, что имею нынче. И большего не хочу. Чтоб это не потерять. Нельзя желать многого. Надо малому уметь радоваться и в руках его удержать!
— А чтобы ты утворила, ежли бы тебе сказали, что свободной стала и можешь ехать с Усолья на все четыре ветра? — спросил Оська бабу прищурясь.
Лидка даже дар речи потеряла. О таком она давно не вспоминала и не думала. Баба села огорошенно. Уставилась на мужа растерянными глазами:
— А куда ж я без тебя? Чего мне надо от жизни — все имею. Мне одной деваться некуда. Хоть и гад ты паршивый, и язык твой, что у хорька из задницы вырос, а все же — свой ты паскудник, — ответила, как было на душе и спросила:
— Ну ты б что делать стал?
— Нет! Я б в Усолье не остался б ни за что. Кой прок мне тут под твоим тощим боком гнить? Я, покуда, не вовсе заплесневел и жисть свою не проклял. Ить не зря я в Туле первым мужиком был! Золотым запасом города считался! Редким экземпляром, который для размножений берегут пуще глаза! Я, если можно так сказать, лицо своего завода был. С меня глаз не спускали…
— Милиция, что ли? — не выдержала баба.
— Молчи, дура! По мне все рыдали, когда беда эта приключилась. Ить я — первый оружейник! Золотые руки и голова! Меня само солнце пометило! А потому, мне на северах вредно оставаться. В свои места возвертаться надо. В свой дом. Как и подобает:
— А я как? — подала голос Лидка.
— Так и быть. Заместо чучела, редкостного экспоната с собой прихвачу. Чтобы видели, какие мартышки на северах водятся. А дом этот — наш усольский, милиции под музей продам. Чтоб потомки знали туды их мать, как мы тут маялись. Без света, без радио, без воды, без правды…
— А что делать станем на материке?
— К деду в лес уедем. В зимовье. Навсегда. Чтоб никогда на люди не объявляться. Забыть о них. Схоронить их в памяти, и в сердце. Оставить в сердце только Бога. И жить в лесу одним. Самим. Без чужих глаз и ухов. Чтобы память остыла и зажила. Чтоб хоть немного на белом свете в тишине пожить. В радости. Чтоб не вскакивать от колокола по ночам, не пугаться стука в дверь, чтоб не будили сердце и память колымские сны. Они мне не на год, они — до смерти со мной, вечным наказаньем, моей тенью идти за гробом станут. И на могиле заместо креста заснут в изголовье. У всех, кто выживет и выйдет с Колымы, замерзшим сугробом на погосте, вечной ночью, отнятой молодостью, черной памятью она останется. И когда меня ослобонят, я — мертвый, не прощу и не поверю. Никому! Мне извиненьем пережитого не возвернуть, и отнятое не подарить заново! Не станет мне от того радости. От того, что наказанный безвинно, всегда будет мстить. Виновным тоже не сбежать с суда. Он будет! Над каждым. В свой час!..
Так его назвали за смехотворно малый рост. За худобу, равной которой не было даже в Усолье. За морщинистую, похожую на старушечий кулак мордашку и вонючую, пропахшую козлятиной и псиной одежду, какую он не менял, видно, с самого своего рождения на свет.
Федька Горбатый любил поиздеваться над мужиками. И чтобы отомстить им за несносную, обидную кличку, во время коротких перекуров стягивал с ног сапоги и тогда от его ног шла такая вонь, что мухи на лету дохли, а усольские псы, доверчиво промышлявшие вокруг людей, почуяв этот запах, с воем убегали на окраину села, и там по неделе не могли отчихаться.
Мужики тоже уходили подальше от Федькиного зловония, ругаясь на чем свет стоит. Иных поначалу рвало. Но Шибздик никак не признавал себя причиной этого зловония и держал ноги на воздухе голыми до тех пор, пока они не обсохнут.
Горбатый был неумолим. Ручаться он умел так, что не только ссыльные, усольские псы, а даже поселковые собаки умолкали, заслышав его визгливый крик. Говорить спокойно Шибздик не умел. А потому свой голос, подарок детства, не менял и, кажется, гордился им. Хоть чем-то, да выделял он его от прочих ссыльных.