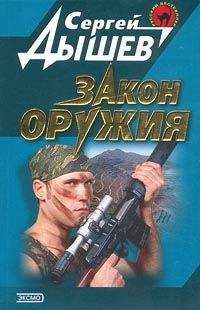Ознакомительная версия.
— Ну что ты, моя радость? Все уже позади… Забудь об этом.
В подтверждение его слов ветер донес глухой звук: бум-м! И тут же еще раз: бум-м!
— Вот и все. Представляю, как их там разметало… — сказал Лаврентьев. — Автоматы, жаль, покорежило. Да и от машин ни черта не осталось…
Она потерла виски, покрутила головой, наверное, пытаясь освободиться от кровавых видений. Лаврентьев промолчал, достал сигареты, присел на железную коробку рации и закурил. В трех километрах от них к шоссе лепился худой кишлачок с беленными солнцем стенами. Одинокой козявкой бродила корова. Он понял, что женщин теряют не только потому, что мало любят, но и потому, что мало им дают. А он ничего не может дать, кроме розового солнца, вылизывающего пустыню, худого кишлака на горизонте и ветра, который доносит пушечный гром. Такую фигню может дать каждый дурак. Особо и стараться не надо. Он посмотрел на свою невесту и подумал, что пауза отчуждения закончилась, решительно встал с коробки, обнял женщину за плечи.
Загудели «жучки» — это приближались танкисты.
— Машины сохранить не удалось! — доложил Козлов, спрыгнув с брони и обнажив белые зубы. Все остальное у него было грязно-серым. К тому же под шлемофоном у капитана сильно чесались уши. Поэтому он беспрестанно поправлял его. — Оружие собрали. Целых автоматов не больше пяти осталось…
— А бандиты?
— Окрошка… Мы за пригорком засели, выставили наблюдателя. А потом — вдогон… Только щепки полетели…
— Ладно, молодец… Поехали, там еще в полку заморочки ждут, — с тяжелым сердцем выдавил командир.
Черные дымы они увидели еще издали. Лаврентьев пришпоривал водителя, скрежетал зубами и бубнил под нос страшные ругательства, он обещал устроить психам Майданек с Бухенвальдом. А еще ему хотелось расстрелять на пепелище майора Штукина, хотя он знал, что тот все равно встанет, отряхнется и поедет поступать в академию. И поступит, а потом пришлет открыточку с видом на Москву-реку.
Полк дымил, словно паровозное депо образца 1914 года. У Лаврентьева навернулись слезы, ветер срывал их, и падали они, незаметные, на горячую пыльную броню.
Ворота стояли распахнутыми настежь. Танки ворвались, прозвенели гусеницами по центральной аллее. К счастью, еще не все сгорело. Рухнула кровля казармы, где припеваючи поживал Автандил, свинья самозваная; слегка обуглилась солдатская столовая — спасли ее цементные полы и каменные стены. Дотлевала также отдельно взятая скамейка, испещренная буквами «ДМБ».
По стадиону, выворачивая остатки дерна, с отчаянным грохотом кружил танк. Он гонял сумасшедших, которые не хотели разоружаться и даже имели наглость пулять по броне. Командовал боевой машиной майор Штукин.
Лаврентьев приказал Козлову зарядить снаряд.
— Зачем? — сурово поинтересовался капитан. Он уже давно не мог избавиться от навязчивой мысли, что все вокруг поголовно сошли с ума.
«Вот и еще один косо смотрит на командира, — подумал Евгений Иванович. — А ведь как удачно решились бы все проблемы, заполучи я диагноз вяло протекающей шизофрении».
— Буду пулять по танку! — грубо ответил он.
— Я отказываюсь выполнять ваше преступное приказание!
— Тогда передай им, пусть остановятся. С придурком Штукиным я разговаривать не буду…
Козлов вышел на связь с майором и передал распоряжение командира. А Лаврентьев сам включил зарядное устройство, пушка заглотнула снаряд и по команде подполковника выплюнула его со страшным грохотом. Снаряд выдохнул краткое «ух-х!» — и улетел черт знает куда. Зато все сумасшедшие людишки от страху попадали, выронили ворованные автоматы и даже наложили в штанишки. И тут же побежали на пепелище родного дурдома. Психическое войско прекратило свое существование.
Так закончилась эта необычайная эпопея.
Впрочем, основные события были впереди. Лаврентьев с печальным ликом бродил по полку, за ним тенью следовал Штукин. Он оправдывался, но командир не слушал его. Предстояло оценить размеры ущерба. Но какими бы они ни были, Лаврентьев знал, что последствия для него будут самыми скверными. «Ну и снимайте! — разговаривал он сам с собой. — Только сначала найдите замену…»
Оружие собрали, посчитали. Не хватало только тех автоматов, которые арестанты успели продать.
Потом Лаврентьев позвонил в дивизию. Но комдив уехал в отпуск, а заместитель как-то странно и быстро закруглил разговор. Ольга соединила Лаврентьева с Москвой. Дежурный генерал на другом конце провода удивился:
— Лаврентьев? А вы чего звоните? Ваш сто тринадцатый полк уже вычеркнули!
— Как вычеркнули? — опешил командир.
— Из списков частей, — недовольно пояснил генерал. — Вы уже не существуете. Американское агентство еще вчера сообщило. Весь мир знает, а вы тут морочите мне голову своими докладами!
Лаврентьев бросился в аппаратную связи.
— Ты с кем меня соединяла?
Ольга испуганно глянула на любимого.
— С дежурным генералом, товарищ…
— Мы не существуем! Весь мир знает…
Лаврентьев выскочил на улицу. Полк был на месте — с казармами, парком, затоптанным стадионом, солдатскими нужниками, плацем, столовой. И вместе с тем он уже не существовал. Это несоответствие заставило командира злобно рассмеяться.
— Проклятая Фывапка! Это ее работа!
Штукин, стоявший у скамейки, недоуменно посмотрел на него.
— Штукин, мне сейчас из Москвы сообщили, что нас больше нет.
— Я не очень понял вас, товарищ подполковник, — смущенно отреагировал майор.
— А так и понимай, что нас вычеркнули из списков частей.
Штукин невольно расплылся в улыбке:
— Правда? Построить по этому случаю полк?
— Не надо. И молчи — сорвутся люди.
— Думаете, убегут?
Лаврентьев обреченно глянул на Штукина:
— Я о другом, Гена… Лети в свою академию и никогда не возвращайся сюда.
* * *
Пепелище не лечит — калечит. Больные угорали от страха в черных стенах обожженной лечебницы. Не была родной им и тем более не стала. Экстаз никчемной свободы рухнул, исчез. Никто их не кормил. Зато появились угрюмые люди с дубинками и автоматами. Они с явным удовольствием избивали больных и приговаривали:
— Вот вам пилюля на завтрак, а вот вам пилюля на обед!
Это Кара-Огай выполнил обещание: взял под контроль психиатрическую клинику.
К счастью, приехал из отпуска доктор Житейский. Он «дикарем» отдыхал под Ялтой, хорошо загорел, много нырял с маской и ластами, изучил флору и фауну подводного мира и поймал восемьдесят семь крабов. Все это время доктор не читал газет, не слушал радио, впрочем, если б и проявлял интерес к происходящему в мире, все равно бы не узнал о невероятных событиях в родном учреждении. Украина была слишком далека от печального города К. И когда он вернулся, то удивился и опечалился до чрезвычайности.
Потом доктор заперся в одном из уцелевших от пожара кабинетов и записал в блокноте перечень первоочередных дел. Он понимал, что внезапно свихнувшийся Шрамм, которого еще надо отыскать, может рассчитывать только на место в палате. А просто по-человечески Житейскому хотелось ухватить бывшего начальника за холку и основательно разукрасить ему физиономию. Молодой специалист не знал, что Иосиф Георгиевич стал кошмаром для всех женщин города. Правда, никто пока не догадывался, что отрешенный сутулый интеллигентишка, шныряющий вечерами в темных переулках, и есть тот самый неуловимый ужасный маньяк.
Доктор Житейский трижды выступал по местному радио, сурово клеймил коллег, бросивших на произвол судьбы несчастных больных, и ставил жестокий ультиматум: к исходу дня прибыть в больницу. К вечеру все собрались, понуро столпились у безобразно черного фасада.
Житейский тут же произнес сильную своими выражениями речь. Он призвал начать новый этап в жизни клиники и объявил как для персонала, так и для больных час покаяния, запретив на это время всякие разговоры и хождение.
Не пришел только Юрка. И доктор специально отправил за ним санитарку. Все знали, что обитал он в полку. Но и там его не было. Вместе с новым другом Сирегой он поселился при штабе. Его не гнали: зачлись заслуги в ликвидации матерого преступника Консенсуса. Сам Кара-Огай жал ему и Сиреге руки. Предложили Юрке вступить в Национальный фронт, но он сразу отказался. Да и вояка, откровенно говоря, из него был никудышный. Никто, впрочем, и не настаивал. При штабе его бесплатно кормили, и он иногда помогал толстухе-поварихе готовить обед.
А в клинику бывший санитар пришел сам на следующий день. Доктор Житейский долго тряс ему руку и благодарил от имени руководства больницы за самоотверженный и бескорыстный труд. Расчувствовавшийся руководитель уже хотел было перейти к новым Юркиным задачам, но тот опередил его:
— Ухожу я, Марат Иванович! И прошу вас выписать мне трудовую книжку.
Ознакомительная версия.