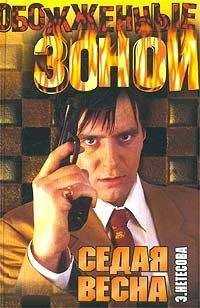Левушка ушел от соседей хмурый. Вся одежда измазана в грязи, руки провонялись. А через час на работу, опять не выспавшись.
— Где ты был? — удивилась Лялька, оглядев мужа.
— Бабку из дерьма выволок! Из самого люка.
— Можно подумать, что сам в него влетел. Вон как вывозился! — сморщилась недовольно.
— Ладно, Ляль. Задохнуться она могла. Если не сосед, то кто еще поможет? А и я случайно услыхал. Курил на крыльце.
— Если бы прежней дорогой шла, не попала бы в люк старая. Ее сын виноват, чуть мать не угробил, — ворчала женщина.
— Это его дело! — отмахнулся Лева и, вернувшись с работы, забыл о случившемся. Приметил лишь, что все соседи на улице как-то по-особому тепло здоровались с ним.
А через два дня вернулся из Москвы Селиванов. Лева не знал о том, да и не интересовался жизнью соседок. У них — родня, они коренные. Есть кому о них позаботиться. И вдруг услышал шаги за спиной.
Лева уже вскопал огород, отдыхал у забора, отгородившего его от Селиванова. Тот закрыл прежнюю калитку. Стало быть, ходить здесь некому, оглянулся человек и увидел Михаила. Он уже снял замок с калитки, открыл ее и направлялся к соседу. Руки не подал. Молча сел рядом:
— За мать спасибо тебе.
— Не стоит. Все мы люди. А жизнь — шторм… Кто в нем выживет, кто погибнет, один Бог знает. Коль не помочь, то и позвать на помощь станет некому…
Селиванов глянул на Левку искоса:
— Ты по-разному помочь можешь. Это я тоже знаю. Но кого и за что ты угробил на Колыме, так и не понял. Я там в работягах был. И нас, случалось, проигрывала в карты шпана. Убивали из куража. А ты, как я понял, из той кодлы…
— Я с работягами дел не имел. Отбывал срок в зоне усиленного, а потом и особого режима. Охрану крошил. Не с добра и куража. Едва выжил. Измывались шкуры так, что убийце поучиться, — рассказал Михаилу о неудачных побегах, о жизни в зонах. Тот, слушая, молча кивал головой:
— Знакомо. И мне этого хлебнуть довелось, — сорвалось с соленым словом.
— Вот и суди! Не сбежишь — сдохнешь. А и сбежишь — жизни не помолишься. Не успеешь. Убил. Иначе меня угробили б. Да и урывали. Сколько на Колыме осталось навсегда? Там снега столько не выпадает, сколько жизней полегло. Нам с тобой повезло, двоим из тысяч, — вздохнул тяжело,
— Слово давал себе — не вспоминать Колыму, не бередить душу, а и забыть не могу, — признался Михаил.
— У меня она на всей судьбе клеймо оставила. Его не стереть, не вытравить. По ночам снится и теперь. Когда в море ходил, легче было. Навкалываешься, как папа Карло, засыпаешь что покойник, без снов и памяти. Теперь моря нет. Уже давно. А во снах, вот черт, вижу колымский берег. Все равно — море! И воняет от него асфальтом. И волны, ну чистый гудрон! И голоса охраны такие знакомые, от них на погосте не залежишься: «Вставай на «пахоту», падла! Шевелись, козлы, вашу мать!» Подскакиваю. А в окошко — соловьиная трель и тишина. Понимаю, сжалилась судьба, протащив через холода, привела в весну человечью, но за что были даны те испытания? — вздохнул Лева, глянув на Селиванова. Михаил смотрел на детей одессита. Они носились по огороду, смеялись звонко.
— У тебя они есть! Судьба не обделила. Не оставила сиротой. У меня нет детворы. Но живу… У других, да что там, сам знаешь, сугроб в голове. А вместо родни на одной общей могиле перекрывает вой пурги волчья стая. Мы выжили, а они там… Навсегда. Значит, нам надо держаться. И… друг за друга — везде. Как там — на Северах, через пургу, гуськом — в зону. Чтоб не потеряться, не пропасть. А испытания, они у всех… Вон у весны тоже белый цвет, как у колымских сугробов, лишь память черная, но и ее стирает время.
Тихон совсем недавно завел себе этого дружка — рыжего, нахального, с ушами торчком, с губами, отвисшими до колен, с шельмоватыми глазами и без хвоста. На щенка деду дали родословную. У людей такое паспортом называется. В собачьей — печати покрасивее и их вдвое больше, чем в паспорте самого Тихона.
Правда, в родословной щенка все деды и прадеды от седьмого колена указаны. Со званиями и титулами, с датами рождения и щенения. А у Тихона — никого, как у дворняги.
Дед поил его молоком, кормил супом и кашей. Разговаривал со щенком, как с другом, доверяя ему, единственному во всем свете, свои тайны, начиная с самого детства. Знал, не выдаст и не проболтается никому.
Чусик рос быстро. Дед назвал его так, чтобы кличка собаки не походила на имя человечье. И в то же время чтобы щенок быстро усвоил ее, запомнил и откликался. С этим проблем не возникло. Чус рос и в длину и в ширину. Его забавная, морщинистая морда становилась похожей на лицо Тихона. Курносый нос и морда, словно ею щенка все время в угол тыкали, вызывала сначала смех, а потом и настоящий ужас..
Боксер — так называлась эта порода, перенял у хозяина не только внешнее сходство, а и характер. Наслушавшись от деда всяких историй, он любил посидеть с ним во дворе под кустом сирени и наблюдал за всеми прохожими. Особый интерес у него вызывали особи женского пола. В них он разбирался не хуже Тихона. Никогда не наблюдал за старухами, плетущимися мимо забора. Лишь иногда, заметив задумавшуюся, озабоченную бабку, выскочит из-под куста и, став лапами на забор, как рявкнет… Старухи, от неожиданности роняя сумки и кошелки, приседали, падали, случалось, мочились. И начинали орать на Чуса, ругать его громко, истошно, грозили псу судом и милицией. Чус слушал. Из всех человечьих слов он выговаривал лишь несколько, каким научил хозяин, но понимал — каждое. Чус был обидчивым, злопамятным и мстительным псом. Потому не прощал оскорблений в адрес хозяина или в свой. И глядя в глаза обидчице, выговаривал самое первое, излюбленное:
— Гов-но!
Бабки, услышав такое, немели. Потом, оглядевшись по сторонам, не слышал, ли кто из соседей собачью брань, поднимали крик на всю улицу. Срамили пса и Тихона заодно. Грозились пожаловаться властям. На что ни человек, ни пес не реагировали. Знали, нынче не до псов, с людьми не могут разобраться…
Другое дело, когда мимо дома шла бабенка лет тридцати пяти — сорока. Вся из себя — сдобная, нарядная, веселая. Чус, не теряя времени, летел к забору и, становясь во весь рост, смотрел в глаза бабе, поскуливал нежно, зовуще, облизывался. И когда женщина, заметив Чусика, приостанавливалась, то говорила ему ласково:
— Ну, что тебе, мой милый? Скушно, есть хочешь? А у меня с собою, как на грех, ничего нет!
— Да он не просит жрать! Он в гости зовет! — смеялся дед Тихон. И баба, оглядев старика, тут же уходила.
— Опять мимо! Снова не наша! Староват я для нее! И ты тут не подможешь. Придется нам и нынче самим суп варить и прибирать в избе. Но, ништяк, наше от нас не усклизнет! — смеялся Тихон и уводил за собой в дом Чуса. — Знаешь, видывал я баб на своем веку! Две законные были. А уж полюбовниц — не счесть. И у тебя они будут. Погоди! Придет твой час. Вскружит голову какая-то, — утешал пса. — Сама за тобой побегит на край света! Так всегда бывает, покуда молоды. В стари никто никому не нужон. Вот и мне, не баба требуется — хозяйка. Ан не зазвать, не затащить. — Ушло мое время. А бывало, стоило моргнуть. С одного взгляда, как пчелы к меду, липли. Теперь вот — никого! Троих детей имею. А где оне ныне? Разметало всех по свету — не собрать под крыло. Да и что я им? Сами взросли. Свои беды одолели. Мне уж не подмочь. Хочь бы навестили нас! — скулит в осиротевшие углы. Так надоело одиночество.
— Дед Тихон! Ты дома? Это я! Дарья! Котлет тебе принесла да молока! Завтра Ульяна баню топить станет. Пойдешь париться?
— Конечно, Дашутка!
— Так я зайду за тобой!
— Хорошо. Буду ждать, — отвечает улыбаясь.
Поев, хотел лечь на лавку, вздремнуть немного.
Но снова стук в двери и голос с порога:
— Дед Тихон! Я — Фаина! Борща принесла горяченького да оладков. Иди поешь! Вечером управлюсь, приду у тебя прибрать.
И не только убирала. Стирала для деда, лечила его. Водила в баню.
Вся улица знала Тихона как отменного печника. И поныне в каждом доме доброй памятью стоят его печи. Сколько лет прошло с тех пор, когда их ставил? Уже и сам забыл. А хозяева помнят… Еще бы! Ни с кого копейки не взял. Тяжкое было время. А и когда оно легким было? Не только заплатить, дети с голоду пухли. Выжить бы. Да как? Вот тогда, подналовчившись у своего деда, стал Тихон самостоятельно печки класть. Страшно было самому за дело браться. Да и годков немного. Всего двенадцать. А и людям не до выбора. Знали, что не так, дед всегда поможет внуку, выправит ошибку. Но и первая получилась удачной. Жаркой хозяйкой на кухне встала. Не дымила, быстро нагревалась, долго тепло держала.
— Спасибо тебе, Тишенька! Родимый наш! Золотые руки! Возьми вот пяток картох. Больше нет ничего!
— Не серчай, внучок! С соседа и это много! Сей доброе тепло. Оно тебе и через годы сторицей воротится, — успокаивал дед. И доставал из котомки сухари и картошку, лук, вареные яйца, какие за работу дали чужие люди.