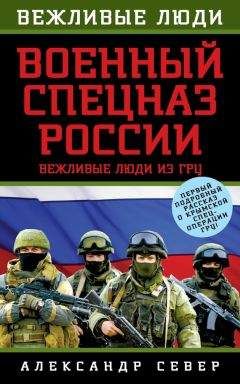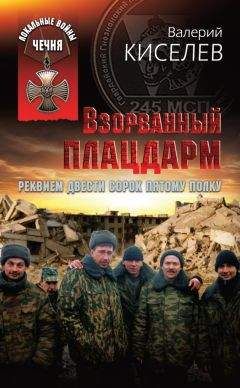стандартное жильё гражданина города Баку! И…
По информации, мы ожидали увидеть в этой стандартной советской «двушке» заседание некоего боевого комитета с вооружёнными до зубов националистами и самим Панаховым, как нам и сообщали местные оперработники, поэтому и готовы были как минимум к перестрелке и взрывам гранат… А на самом деле наткнулись на семью из четырёх человек: двух взрослых и двоих детей, возрастом лет девяти-десяти, заспанных и, судя по всему, никогда даже не слышавших о бандитах. Обстановка квартиры была настолько убогой и бедной, что даже не вызывала сомнения: хозяин квартиры – абсолютно честный человек. Он долго испуганно ахал, искал паспорта свой и жены, а потом сказал такое, что я готов был провалиться от стыда сквозь землю:
– Я – рабочий на заводе, и стаж моей работы на одном месте – уже восемнадцать лет. Я знаю, почему вы пришли именно ко мне!
– Мы ищем Панахова…
– Я никогда в жизни не общался с Панаховым и даже никогда его не видел… Но я знаю, почему вы пришли ко мне. Я вчера выступил на общем собрании завода в связи с событиями, происходящими в городе, и сказал, что директор – вор и развалил предприятие… И ещё я сказал, что у меня в семье нечего жрать и мои дети часто бывают голодными. В магазинах ничего невозможно купить, всё надо доставать. И ещё я сказал… – И тут рабочий замолчал, видно, спохватившись… Стоит ли так откровенно разговаривать с вооружёнными людьми, ворвавшимися к нему ночью в квартиру?
– Вы арестуете меня? – спросил он. Но видно было, что его ничего уже не сдерживало, даже ответственность за детей и жену не были препятствием… – Арестуйте! Арестуйте за то, что я – рабочий человек и за то, что говорю правду…
Мы стояли молча, а он метнулся к какому-то подобию комода и притащил свой партийный билет. Показывая бордовую, знакомую всем партийную книжицу, он тыкал пальцами в отметки на листах и, причитая скороговоркой, как молитву святой Деве Марии, говорил:
– Вы посмотрите, сколько лет я – член партии… У меня даже уже за январь оплачены членские взносы! Я честно плачу партии деньги каждый месяц… Но денег не хватает даже на продукты. В городе такие цены… Что мне делать? У меня дома даже хлеба уже нет. Мне стыдно перед детьми, что я, здоровый мужик, не способен прокормить семью…
Так неловко я ещё никогда себя не чувствовал. От героического порыва, когда перед штурмом этой квартиры, двигаясь на вооружённого врага, мы мысленно захватывали некое конспиративное сообщество боевиков, не осталось и следа… Я понимал, что случаются ошибки и адрес по какой-то причине мог быть неверным… Но здесь явно прослеживался какой-то умысел против этого рабочего или вообще против всех сразу. В обыкновенную, глупую случайность я поверить не мог. Кто и как руководил этой неразберихой? У меня не хватало ни ума, ни опыта, чтобы это понять… И этот случайный – не случайный умысел теперь медленно и неотступно начинал работать против нас всех. И тех, кто пришёл, и тех, к кому пришли…
Из квартиры мы вышли притихшие. Кроме меня, Инчакова и Кшнякина с нами было ещё четыре офицера. Остальной группе, расположившейся и в подъезде, и на прилегающих улицах, мы сказали, что Панахова и боевиков в квартире нет! Да и поскольку шума борьбы и стрельбы из квартиры не донеслось. Объяснять, что там произошло, никому не стали. Мы не вдавались в подробности и детали произошедшего… Все дружно молчали, наверное, каждый для себя пытаясь разобраться: «А что же всё-таки происходит в городе? Почему мы, такие сильные и ловкие, не можем победить этот, как нам представлялось, неорганизованный, разрозненный, непонятный фронт? В чём же истинная проблема?»
Местные оперработники в большинстве своём, если даже сопровождали нас, почему-то за несколько домов до нужного нам места всегда находили способ, чтобы остаться там и ближе уже не подходить. Их некая «секретность» нахождения в этом месте в темноте улиц и безлюдности района была, по крайней мере, смешным и глупым объяснением… Но мы делали вид, что верили: «Ну, надо так надо… Вам здесь работать… Вам здесь жить…» Мы оставляли их со своей «правдой» и мыслями там, за поворотом улицы и далеко от домов, искренне жалея их, попавших в такую непростую ситуацию. Мы думали о них, переживали, беспокоились… Как бы сделать так, чтобы их оперская работа была успешной во благо общего дела? Они, несмотря ни на что, оставались нашими коллегами и братьями по службе. Мы верили, что мы – вместе. А что происходило у них в душе, мы боялись даже представить…
Тот многоэтажный дом, где должен был в очередной раз произойти арест, за эти несколько дней нашего пребывания был лично для меня пятым адресом, куда нас – «Срочно! Срочно! Уйдут – не поймаем!» – бросали… Но понимание, что что-то происходит не так, нарастало в нас с каждой следующей дверью. И в то утро, хотя и пришлось именно мне извиняться перед тем, ещё не причастным к национальному фронту простым рабочим, я понял, что у этого некоего неуловимого Панахова появился ещё один и, скорее всего, очень преданный сторонник. Этот рабочий – теперь его кадр! Им стал он, этот житель Баку, против которого стояли мы, вооружённые до зубов, а он – напротив нас, в одних трусах, со своей, как оказалось, никому не нужной правдой, принципиальностью и со своим партийным билетом с аккуратно уплаченными взносами. А выбитая плечом дверь его убогой квартиры, вряд ли затем отремонтированная силами местного КГБ, была лишь поводом для таких печальных умозаключений.
– Автобус – внизу, – тем временем продолжал совещание начальник отдела, – номер вы знаете. Действуете по обстановке… – И, немного помолчав, добавил:
– Я еду с вами!
В последних словах командира для нас уже ничего странного не было. Розин, вообще, – человек совестливый. Он сам был готов рисковать, импровизировать, ковать победу и не раз уже в своей жизни доказывал, что делать это умеет. Но в ситуациях, которые возникали в Баку в этот период, и события были непонятные, подлые, всё время происходящие повсюду. Всё случавшееся было какими-то туманным, неоткровенным, порой – даже лицемерным, и командир своих подчинённых подставить не мог. Не мог он их подвести – не таким был его характер. Оставить одних расхлёбывать – не мог! Нет, не потому, что не верил в них или не был уверен в правильности их решений, а потому, что не мог допустить даже мысли о том, чтобы самому уйти от ответственности за происходящее. Ведь сам всё время учил: «И в радости, и в горести –