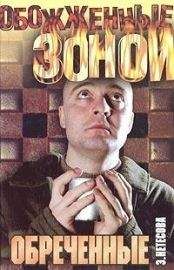Эту зону держали воры. А они никогда не враждовали со священниками. Все верили в Бога. Почитали Его и ни одного гнусного слова о Господе никогда не слышал Харитон от тех, кого на воле считал отпетыми грешниками. Ведь это были воры в законе, нарушавшие всю жизнь, и не раз — заповедь Божью. До Колымы ему ни разу не доводилось видеть воров в лицо.
Здесь же, в бараке, сразу всех и не упомнишь. Ни одного имени человечьего, все под кличками. На него внимания не обращают. Играют в очко, в рамса. Другие чифирят открыто. Иные, разбившись на свои «малины», разговаривают о своем.
Когда Харитон просыпался, сявка бугра приносил ему поесть. Так же было в обед и ужин. С него никто не требовал плату, не ждал благодарности.
Лишь через месяц бугор барака спросил Харитона, как ему дышится? И, узнав, что беспокоится священник о своей семье, пообещал нашмонать ее. И через пару недель назвал адрес нового места жительства — в Сибири.
Священник написал жене и попросил фартовых отправить письмо. Те, без уговоров согласились. А через месяц отец Харитон получил ответ. Опер вручил. И священник, узнав почерк жены, заторопился вскрыть конверт.
Потом три дня уговаривал сявка Харитона поесть хоть чего-нибудь. Священник не мог. Давясь слезами, молил у Бога прощения за грехи вольные и невольные, чтоб отпустил их Господь. Ведь и священник — человек. И ему не под силу все стерпеть и пережить, со всем смириться.
И тогда не выдержали фартовые. Сели вокруг. Спрашивать стали, что стряслось?
Пухлое письмо жены лежало рядом. И бугор без спросу взялся читать его вслух.
«Уж и не знаю, отец ты наш, за что Господь прогневался. Забрали нас после тебя на второй день. Всех. Держали в тюрьме неделю. Там мне сказали, что наш старший сын отрекся от нас. И решил сменить фамилию, жить, как все. Его тут же выпустили на волю. Я читала своими глазами его записку мне. В ней он простился с нами со всеми.
Младший, Гришенька наш, умер в тюрьме от простуды на шестой день. С восемью ребятами, пешком, повели нас этапом в Сибирь, в Красноярский край. Не доходя до Урала, отморозил себе легкие Петенька, и отошел ночью, захлебнувшись кровью. Через три недели после него — Глеб умер. От скарлатины. Дементий— под Рождество Христово, когда шли тайгой по Сибири, от истощения умер. Кормили нас, чтоб глаза видели смерть друг друга. Виктор, не дойдя до Красноярска, упал. Поморозил ноги. Не мог идти, конвой пристрелил, и меня к нему не подпустили, чтобы помочь. От Дизентерии умерла Татьяна уже в Красноярске. И осталась я с троими детьми. Уж лучше бы Бог прибрал меня, чтоб не видеть смерть детей наших. Умирая, все тебя звали, просили Господа тебя уберечь в жизни. И все прощения молили, за малые провинности — за упрямство, за непослушание…
Как жить мне теперь? А и помирать нельзя. Дети… Твое письмо получили, на колени попадали. Бога благодарили. Может доведется— свидимся. А нет — прости, коль виноваты были в чем. И помолись за нас. Земные мы, прощать должны друг другу. И ты, отец наш, прости своего старшего сына. Отпусти ему грех глупой молодости. И пиши. Твоя весточка Костю от болезни вылечила. Ангина у него была. Да вот избавился. Сохрани тебя Бог и спаси…»
О себе жена не написала. Харитон лишь сердцем чувствовал, что молчала неспроста, чтоб не расстраивать его в конец.
Фартовые о чем-то говорили, Харитон не слышал их.
— Потянешь резину с полгода и похиляешь к своим. Это я ботаю! Так что не ссы. Помни одно — фарт выше наркома, — пообещал бугор.
А еще через месяц зачастил к Харитону фельдшер. Посидит рядом. Поставит горчичники на пятки. Священник не понимал. Но бугор барака посоветовал ему молчать, сказав, что решил его списать по нездоровью из тюряги.
Отцу Харитону не верилось в такое. Но однажды бугор фартовых подошел к нему. И, присев рядом, сказал:
— Фраера тебе ксивы делают. Тюрягу ссылкой заменят. Чтоб не загнулся ты здесь.
— А почему ты мне помогаешь? — впервые насмелился спросить фартового.
Бугор, глянув на Харитона, впервые заговорил на нормальном, человеческом языке:
— Мы, хоть и воры, но тоже не вчера родились. С Богом не воюем. Знаем свое место и звание. Помним, что и жизнь и удача— от Господа. И никогда не базлаем Его. Он все видит, и всех. А про себя, да что там, мальчишками обокрали церковь одну. Не с добра — жрать нечего стало. Поймали нас. А священник не стал на нас капать. Забрал ксиву, что дьячок настрочил, сказал, будто плату мы получили за то, что все лето и осень вкалывали на церковь. В саду и поле, заготавливали дрова. Придумал он все. А нас отпустили. На волю. Того дьячка священник навсегда в монастырь отправил. За грех. За нас… С тех пор много лет минуло, а я свой долг помню. И хотя воровать не бросил — отцам церкви помогаю, — признался бугор и добавил:
— Впрочем, все фартовые Бога любят. В церковь, помня грехи, не ходим, чтоб не осквернять. Но и священников не обижаем. Они средь прочих — особые. Видят грешника, но не стучат на него. Ни Богу, ни властям. Помогают вырваться из беды. Но… На земле грешной мало вас. Грязи много. Вот и воруем. У сытых, кто нас, мальчишек, голодать заставлял. Вынуждаем выполнять Писание, чтоб богатые жертвовали бедным. Коль сами не хотят, мы без спросу… Иначе им в рай не попасть. А мы об их душах заранее печемся, — ухмылялся бугор.
— Грех мне от вас помощь брать, — признался Харитон.
— А мы и не помогаем тебе. Помогают нищему, на паперти. Я ж просто свой долг вернул. Тебе. Вроде спасибо тому священнику сказал, который навряд ли дожил до дня нынешнего, — погрустнел бугор.
Отец Харитон жил бок о бок с фартовыми почти год. Он слышал и знал о них все. Но никогда за все годы даже собственной памяти не позволял воскрешать услышанное. Он работал в библиотеке зоны. А к концу года его, как и обещал бугор, списали по состоянию здоровья и отправили в Магадан, откуда быстро переправили на Камчатку. Вскоре к нему приехала и жена с детьми.
Все вместе спали они на шкуре медведя, провалившегося в землянку Харитона. И там, в Усолье, рассказала Пелагея Харитону о всех мучениях, пережитых за время разлуки.
Священник молился, благодаря Господа, что не дал погибнуть его семье целиком. Просил прощения за старшего сына, которого не сумел воспитать достойно.
— Прости его, Господи, пусть его грех на меня ляжет, а его — вразуми и не покарай, — просил священник Спасителя. И, видимо, был услышан.
Сюда, в Усолье, пришло письмо от бугра фартовых, в котором он сообщил Харитону, что его сын — жив и здоров, учится на рабфаке на врача. Женился. И у него скоро появится ребенок.
Сообщил и адрес. Много раз Харитон порывался написать сыну. Но рука не поворачивалась вывести на конверте чужую фамилию. И снова откладывал мысль о примирении на неопределенное время. И снова каялся перед образами за свою гордыню, за неумение прощать, просил помощи у Создателя. Но и следующее письмо летело комком в печь.
Жена все видела, понимала, но ничем не могла помочь. Язык немел дать совет. Слова застревали в горле комом. И сверлила сердце обида на сына, предавшего родителей. Харитон понимал, теперь таких много. А будет еще больше. Письмо сыну он так и не отправил. Но из официального ответа на запрос узнал, что тот погиб на фронте в октябре сорок третьего года. Не осталось и семьи. Погибла при бомбежке…
Харитон тогда и вовсе сник. Ночами, когда все в доме спали, он уходил на кухню и долго сидел, сжавшись в комок, глядя в беспросветно черное небо. Он думал, за что так сурово наказывает его семью Бог? В чем он — Харитон, так провинился перед ним? За то, что в той последней проповеди сказал прихожанам всю правду? За то, что впервые высказал свои убеждения. Но ведь о том, гораздо раньше, сказали пророки. Но они — от Бога! А он кто?. Вот и обязан был молчать о кесаре, как завещано Господом. Но и таких видел на этапе. Молчали. До Колымы, кроме него, мало кто дошел. Их остригли, обрили наголо. Чтоб их и на том свете Господь своими служителями не признал.
Харитон тогда вздыхал. Он выжил. На радость, иль беду, кто знает заранее?
Священник вздрогнул, закричал в бессилье. Память, вопреки запрету, подкинула свое пережитое, колымское.
И снова привиделся фартовый барак, отдельные боковые нары — железные. На них никто не спал. Они служили для другого. На них наказывали, пытали провинившихся. Особо жестоко истязали фартовые стукачей — сук. И того, худого, жилистого мужика.
Его втолкнули в барак пинком. И, разложив на нарах, привязали накрепко, чтоб не выскользнул ненароком. Перед тем раздели наголо.
— Петухи вонючие, пидеры! Что делаете? — орал мужик.
— Захлопнись, падла! Твоя жопа, как и жизнь, всем без понту. Мараться не станем о сучье говно! — успокоил мужика одноглазый фартовый — Циклоп, и проверив, прочно ли привязан стукач, схватил с печки кипящий чайник. Брызнул в лицо суке. Тот заорал, задергался.
Бугор в это время раскалял в топке железный прут. Ждал, когда тот покраснеет. И сам заводился.