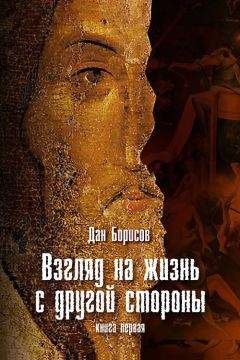– Значит, Владимир Андреевич…
– Значит, Любовь Петровна, я не берусь со стопроцентной уверенностью утверждать, что Андрей Никитович погиб. Как не могу со стопроцентной уверенностью утверждать и то, что он жив… Понимаете? Но что-то подозрительное в этом деле есть. Особенно мне не нравится статистика, и я попросил к завтрашнему дню подобрать мне кое-какие сведения… Статистические…
– Я просто в растерянности…
– Извините… Мне не хотелось бы вас напрасно обнадеживать, потому что, если я не прав, вам будет очень больно. Но вы должны быть готовы к этому. И я не имею права отнимать у вас веру и надежду. И сам очень надеюсь, что смогу дать вам дополнительные сведения… Я завтра утром встречаюсь по этому поводу со своим преемником полковником Мочиловым. Помощь с его стороны может оказаться существенной…
– Спасибо, Владимир Андреевич… Извините, что так загрузила вас…
– Это вы извините нас, что мы вовремя не хватились и не проверили все сразу. Возможно, проверку проводить еще придется… Но это не все, что я сумел узнать. По моей просьбе дежурный по управлению затребовал с телевидения копию видеосюжета, о котором вы говорили. У вас есть на чем посмотреть?
– Видеомагнитофон…
– Хорошо. Я сейчас позвоню, вам доставят пленку. Адрес мне напомните…
Любовь Петровна севшим от волнения голосом с трудом смогла продиктовать адрес.
– В подъезде домофон?
– Сломан… Дверь открыта… Можно просто подниматься. Восьмой этаж…
– Хорошо, ждите…
Положив трубку, Любовь Петровна еле-еле смогла дойти до дивана, чтобы сесть.
Ноги совсем ее не слушались…
* * *
Телефон звонил долго, требуя к себе внимания, а генерал смотрел на светящееся цифрами табло определителя и пытался вспомнить, чей номер там высветился. Номер был явно знакомый, но вспомнить он не смог, несмотря на свою великолепную память, и, с некоторыми колебаниями, все же снял трубку:
– Профессор Аладьян, слушаю…
– Здравствуйте, Эдуард Осипович. Давненько мы с вами не встречались…
Эдуард Осипович голос, конечно же, узнал сразу и простил свою память – за двадцать с лишним лет можно любой номер забыть, даже номер американского посольства, но изобразил непонимание, чтобы иметь время и правильно сориентироваться, потому что сориентироваться в связи с изменившейся за двадцать лет ситуацией следовало обязательно, и сориентироваться следовало правильно, чтобы не жалеть потом.
– Простите… Не припомню… Кто это?
– «Блудный сын Будды», как я когда-то вам представился… Не вспоминаете?
– Что-то очень смутно… Нельзя ли поконкретнее и покороче. Я сейчас очень занят, у меня люди в кабинете сидят…
Голос генерала звучал не слишком приветливо. Намеренно не слишком приветливо.
– Даже в это время? – голос на другом конце провода выказал удивление. – Я рассчитывал, признаться, что вы сейчас свободны…
– У нас рабочий день ненормированный. Мы никогда не бываем свободны.
Генерал, как любил это делать, говорил только половину правды. Люди сидели и ждали его, но не в этом кабинете, а этажом ниже, куда он должен был вскоре отправиться. И не просто ждали, а работали и знали, что профессор затребовал данные по сбою, который чуть было не произошел в перспективном проекте «Рецессивный фантом». Данные срочно готовят и приводят в удобочитаемый вид. Именно – в удобочитаемый… Аладьян не любил графики и формулы, хотя и занимал профессорскую должность, и всегда предпочитал простой и доступный текст.
– Хорошо, я буду говорить конкретнее и передам вам привет от доктора Джона Александера[2]. Он вас хорошо помнит…
– Я вспомнил вас, – вынужденно признался генерал и решил все же смягчить на всякий случай свой тон. Кто знает, какие связи сгодятся в будущем. – Извините, я сейчас в самом деле чрезвычайно занят…
– Понятно, Эдуард Осипович. Такие запарки у всех бывают. Но я хотел бы встретиться с вами, чтобы и старое вспомнить, и обговорить кое-какие перспективные дела. Ваш телефон определил мой номер… – Собеседник показал, что его аппарат сам определяет определитель. Впрочем, многие аппараты так делают, и удивляться этому не стоит. Многие аппараты, в том числе и аппарат генерала, даже определяют, прослушивается ли линия. – Когда освободитесь, если вам не трудно будет, позвоните мне. Мы договоримся…
– Я вообще-то намеревался сегодня всю ночь в кабинете пробыть… У нас ситуация острая… – неуверенно заявил генерал. Но потом решился. – Хорошо, я позвоню попозже…
Положив трубку, Эдуард Осипович вдруг заметил, что у него дрожат пальцы. Признак нехороший, и совсем нехорошо будет, если другие тоже это заметят, но унять дрожь только усилием воли никак не удавалось. Однако все же виной нервному состоянию справедливо считать общую обстановку, а не звонок «Блудного сына Будды», который явился только стимулятором возбуждения. В принципе этот звонок, хотя и возвращает к старым связям, ничего с собой не несет, поскольку вины за собой Эдуард Осипович не чувствовал и принять обвинения только потому, что ситуация в стране сейчас иная, не может. А обвинить его обязательно захотят, если все выплывет наружу. Но ему есть к кому отправить обвинителей… Правда, переадресация к покойнику может восприниматься как слабое оправдание, но покойник оставил после себя письменные свидетельства. А если этого покойника перед похоронами отпевают в храме Христа Спасителя, несмотря на то что он распродавал накопленное поколениями людей, то свидетельства эти стоят многого. Однако дрожь в собственных пальцах генералу не нравилась.
Порывшись в кармане халата, Аладьян нащупал и вытащил пузырек с таблетками валерьянки и проглотил сразу пять таблеток. Этого должно хватить, и всегда хватало, когда требовалось себя успокоить. Нужно только подождать минут десять, и все пройдет. И как кстати пузырек оказался под рукой. Недавно крошил таблетку коту, который отказывался есть сухой корм. С раскрошенной таблеткой кот не только весь корм съел, но и вылизал свою чашку. А теперь вот сгодилось и самому. Кот здесь же живет, в лаборатории, и считается всеобщим любимцем. Однако за едой приходит только в генеральский кабинет. Уважает чин…
Пальцы дрожать перестали даже быстрее, чем ожидалось, и теперь можно было спокойно пойти в кабинет этажом ниже. Куда Эдуард Осипович и направился, предварительно проверив, закрыт ли его сейф, и заперев свой кабинет на два замка. Это твердая привычка, которую он в себе выработал. Навешивать печать и включать сигнализацию он не стал, поскольку рядом находится закуток дежурного по лаборатории, а там, как того требует необходимость, дежурит не только офицер, но, в дополнение, и врач из наблюдательного сектора. Естественно, врач и офицер друг другу не доверяют, и один в присутствии другого не способен попытаться проникнуть в кабинет генерала. Вообще-то, в этот кабинет уже давно никто проникнуть не пытался. Попытка была вообще единственная, и та целых двадцать лет назад. Тогда, как потом удалось выяснить, одного из сотрудников перекупили французские журналисты, готовящие материал по теме исследований. Сумели вычислить человека по какой-то научной статье. В результате сам виновник перешел из категории сотрудников в категорию подопытных объектов, а потом к нему присоединились и два аккредитованных в Польше французских журналиста. Они не знали, что в Польше аналогичная лаборатория давно ликвидирована и все оборудование демонтировано, точно так же, как оборудование в берлинской лаборатории. И искали след, где его уже не было. Но попутно нашли каким-то образом след в России. Здесь все обстояло несколько лучше. Российскую лабораторию хотя и закрыли на время из-за недостаточного финансирования, но не демонтировали, и даже охрану не сняли, и, когда ее деятельность понадобилась существующей тогда власти, финансирование началось заново, причем финансирование в таких масштабах, какие и не снились раньше, в годы советской власти. Откуда шли деньги, знали только сам Эдуард Осипович и тот, кто деньги давал. Ну, еще люди в правительстве во главе с внуком детского писателя прошлых лет, люди, через которых деньги проходили, но они толком не представляли, что приходится финансировать. Тогда же были даже предоставлены дополнительные материалы по результатам исследований аналогичных американских лабораторий взамен на данные собственных исследований. Тот обмен, который не слишком любезно был бы воспринят сейчас, в связи с изменением политической обстановки, именно его могут сейчас поставить в вину Аладьяну его недоброжелатели. Но передача данных была санкционирована с самого верха, и в генеральском сейфе до сих пор лежит распоряжение, завизированное лично президентом[3]. Такая бумага сейчас чрезвычайно важна, и во многом именно из-за нее Эдуард Осипович так ревниво относится к содержимому своего сейфа.
Но тогда, двадцать с лишним лет назад, в эту историю пожелали влезть французские писаки. Пресечь это пришлось предельно жестко, хотя были и другие способы «убедить» любопытных в чем угодно. Но с тех пор режим секретности генерал считал в своей деятельности приоритетным. Не в деятельности лаборатории в целом, а именно в своей, в деятельности руководителя лаборатории. И это то, что он умел делать лучше всех в коллективе, тогда как другие лучше делали основную работу. По большому счету, это было распределение функциональных обязанностей. Профессор Аладьян сам лучше других знал, что ученым только назывался, и диссертации, сначала кандидатскую, потом докторскую писали для него сотрудники. Он же был просто военным человеком, военным руководителем, но никак не научным. Хотя в научные дела вникать тоже приходилось. Но сам он никого к себе и своим делам близко не подпускал. И даже разработал целую серию мер, предотвращающих возможность постороннего вникнуть в его действия хотя бы минимально. И начиналось все с простой аккуратности – с закрытых дверей…