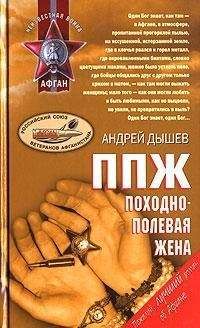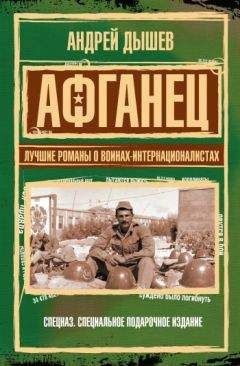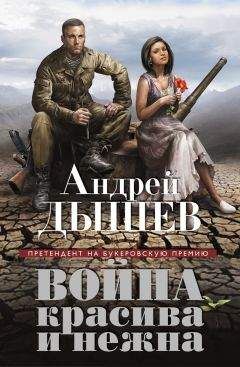- Я не полечу… Я не могу…
- Ирка! - кричат изнутри соратницы. - Дура! Вернись!
Дура не возвращается. Она плачет, крутит головой и бурлачит свой багаж подальше от самолета. Комендант в замешательстве. Ничего подобного он еще не видел. Как фамилия?.. Вы в самом деле не хотите лететь? А самолета больше не будет, чтоб вы знали! В плане на завтра точно не стоит. А что будет послезавтра, одному черту известно. Колонной на Хайратон поедете. На броне. А дорогу на Ташкурган обстреливают каждый день. Да и попробуйте найти офицера, который взял бы вас под свою ответственность. Вам это надо? Этот геморрой вам нужен? Подумаешь, какая цаца - с гробом она лететь не может.
Но у Ирочки уже истерика. Она крутит головой, тащится муравьем все дальше и дальше и даже не оглядывается. При чем тут гроб, идиоты! При чем тут гроб… Платка нет, высморкалась в батник, потом вытерла им же глаза. Остались черные разводы. Она села на чемодан, отдышалась. Уф, как тяжело, как давит и болит в груди. И все померкло вокруг. И небо темное и мрачное, и солнце злобное, и так гадко-гадко на душе. А ведь надеялась, что никогда не узнает войны, что отработает за прилавком магазина два года, где лишь кондиционированная прохлада, очередь, ищущие взгляды солдат, шелест чеков, банки «Си-си», сигареты, печенье, сгущенка, праздничные наборы, салями и икра, отложенная для начальства, «Ирочка, солнышко, дай мне без сдачи пачку чая, я не могу стоять, меня начштаба вызывает!», «Ируся, привет! Не слышно, когда магнитофоны подвезут? На Новый год будут?», «Мне упаковку «Боржоми»! Да, орден обмываю. Вечером придешь?» И так каждый день, с утра до вечера, товар-чеки-покупатели. Мужиков куча, раскладываешь их, словно пасьянс, прикидываешь, на кого ставку сделать. Белкин, командир девятой роты, хороший парень, но женат и не слишком щедр на подарки. Бурцев, начальник артиллерии, хоть и холостой (врет, наверное), но уж какой-то тупой и скучный, с ним Ирина два раза спала - в самом прямом смысле этого слова, крепко, с храпом. Сидоренко, начальник склада ГСМ, богатый, щедрый, заводной, но уж больно охоч до баб и выпивки, с ним серьезные отношения не построишь. Тинченко, пропагандист политотдела, слишком циничен; приходит чистенький, аккуратненький, одеколоном пахнет: «Так, Ирина, я дарю тебе джинсы, но это не только за сегодняшний раз, но и еще на будущее, потому что эти джинсы стоят восемьдесят чеков, а для одного раза это слишком многовато…» - да и труслив он до тошноты: делает свое дело и все время прислушивается, кто по коридору ходит, кто о чем там балакает, не произносит ли кто его фамилию… А как сделает все, что хотел, выйдет в закуток, где умывальник, и плещется там долго-долго, бряцает стеклянными пузырьками с какими-то едкими растворами - спринцуется, протирается, не дай бог венерическую заразу подхватит! Венерические болезни - самое страшное, что может случиться с офицером политического отдела. Это хуже пьянства и глупости, хуже подлости и трусости. Потом, старательно пряча глаза и скрывая брезгливость, он выметается из комнаты - тихо-тихо, как мышь, а предварительно высовывает голову в коридор и смотрит, чтобы не было никого. Словом, от этого Тинченки самой помыться хочется как следует.
И вот пролетело два года, а ставка так и не была сделана. Ничего серьезного. Все мимолетно, впопыхах, скрытно, шепотом, да все по пьяни, с запахом лука и сигарет, когда мозги задурены, и слезы льются безудержно, когда вдруг кажется - все! влюбилась! нашла! вот оно, счастье! - а на утро нестерпимо стыдно, пасмурно и пусто на душе.
А с тем солдатиком что было? Обвал нежности и жалости. И никакого стыда. И не было желания отмыться с мочалкой. Как сон - короткий, яркий, счастливый, в котором почти не помнишь деталей, а только лишь ощущение, большое и светлое ощущение воздуха, пространства и полета… Был вечер. Ирина уже закрывала магазин. Осталось пересчитать и погасить чеки, поставить на сигнализацию, запереть двери и сдать под охрану разводящему караула. Она уже взялась за засов, но дверь вдруг распахнулась, и унылый пыльный пейзаж заслонил собой он. Наверное, солдат долго бежал, чтобы успеть до закрытия, и потому часто и глубоко дышал и не смог сразу ничего сказать. Ирина научилась их различать. Это был не «сынок», скорее всего дембель, хоть и без отпечатка высокомерия и жестокости на лице. Ростом выше ее на целую голову, белесый, словно альбинос, настолько белесый, что почти невозможно было разглядеть его нежную щетину на подбородке и скулах. Губы розовые, мальчишеские, а глазки - просто не оторваться! Голубые глазки! Настоящие голубые, а не вяло-серые, какие тоже почему-то называют голубыми. Он снял панаму и стал обмахиваться ею, как веером. Прозрачные капельки пота скользили по его щекам.
- Я… это… за сигаретами…
- Магазин уже закрыт, - ответила Ирина и слабо потянула ручку на себя.
Как все продавщицы, она умела отвечать покупателям грубо и решительно, но сейчас почему-то не хотелось грубить. Она не могла оторвать взгляда от этих удивительных глаз и даже улыбнулась помимо воли.
- Мы завтра утром на блок выезжаем, - стал торопливо объяснять он. - На целый месяц… а сигарет нет… Мне только двадцать пачек «Примы»… У меня без сдачи…
Она ничего не сказала, отступила на шаг, впуская его внутрь, закрыла дверь на засов. «Надо же, какие красивые солдаты бывают!» - подумала она с удивлением, открывая для себя удивительную новость. Раньше она никогда не вглядывалась в лица солдат. А что высматривать? Серая, безликая масса, запуганная, несчастная, безропотная. Ирина зашла за прилавок, потянулась к верхней полке за сигаретами. Она чувствовала его взгляд и не понимала, что происходит с ней. На ней был сарафан до колен, желтый с красными цветами. Легонькая, хорошо обтягивающая тело тряпка. Не новая, не самая лучшая из ее гардероба. И ножки у Ирины не ахти, чуть полноватые, с излишне крепкими икрами. И каблук низкий, «рабочий», на котором нетяжело стоять весь день за прилавком. Словом, объект не самый привлекательный, по союзным стандартам - на троечку с плюсиком. Но Ирина вдруг почувствовала себя актрисой на сцене, освещенной софитами. Нет, не просто актрисой, а отчаянно-смелой танцовщицей в кабаре, этакой примадонной, воплощающей в себе ослепительную порочную красоту, море наслаждения и горько-сладкую женственность… Она встала на цыпочки, вытянулась в струнку (во всяком случае ей казалось, что в струнку) и стала перебирать пачки сигарет. Снять с полки двадцать кровяно-красных коробочек можно было быстро, за один подход, но Ирина делала все медленно, позволяя любоваться собой долго. Ей было приятно и легко, она знала, что сейчас являет собой совершенство, ее недостатки замечательным образом превратились в достоинства, и красивый парень рассматривает ее со скрытой жаждой, и она красива до головокружения, до безумия, и в сумрачном зале над прилавком вершится торжество красоты и страсти.
Она выложила сигареты на прилавок, глядя на солдата открыто и чуть насмешливо. Она видела, что с ним творится. Он прятал свои чудесные глаза, движения его были неточные, когда он укладывал сигареты в пакет. Он старался скрыть свое волнение, свое участившееся дыхание и так крепко стискивал зубы, что вряд ли смог бы что-либо сказать. «Как легко ты потерял голову!» - подумала Ирина. Это ее забавляло. Она назвала сумму. Солдат не понял, он сейчас не мог думать о деньгах и не понимал смысла чисел. Переспросил - хрипло, не своим голосом и закашлялся. Ирина улыбнулась. «Какой славный мальчишка!» Он протянул ей деньги - неуверенно, словно хотел прикоснуться и погладить какого-то прекрасного, но непредсказуемого зверька. И она протянула руку, медленно, не спуская с него глаз, уже почти наверняка зная, что сейчас произойдет, что становится непреодолимым искушением. Он выронил деньги на прилавок, схватил ее руку, потянул к себе; в его небесных глазах блестели мольба и страх. Он творил что-то недопустимое, недозволенное, совершал преступление, он ожидал, что прекрасная женщина сейчас отдернет руку, громко закричит, ударит его по щеке. Но она позволяла держать себя за руку и продолжала улыбаться, и эта покорность испугала солдата еще больше. Он замер, лихорадочно дыша. «Ну что же ты?!» - спросила Ирина - вслух или мысленно, сейчас уже не вспомнить. Он сделал шаг и кинулся в манящую пропасть. Обежал прилавок, попутно обрушив пирамиду из пустых коробок, схватил ее за плечи, но тотчас почувствовал, что надо не так (забыл, черт возьми, как надо девушку обнимать!), опустил руки на талию, прижал к себе, стал целовать жадно и поспешно - скорей, скорей, пока не отняли это божество! Она попятилась, уводя его с собой в подсобку - там стоял топчан, но у солдата не хватило терпения идти так далеко, начали подкашиваться ноги, и вся его военная, снайперская, комсомольская, дембельская сущность залилась могучим инстинктом, и все в нем сразу увязло, замерло и подчинилось. Что он делал, что он делал!! Он поднимал подол ее сарафана, оголял ноги - это же просто бесстыдство, пошлость, но какая сладкая, сволочь, почему так невообразимо хочется такой пошлости? Почему, почему, почему?