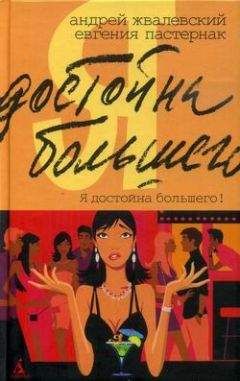Ознакомительная версия.
«Ты последняя! Последняя на моем счету, Ангелина! Повернись! Повернись, чтобы я мог видеть твои глаза!»
И она оборачивается медленно, так медленно, что я вижу — отсюда, сверху, из далекой дали, — как из-под ее белой шапочки выбивается красная прядь и стекает по белой шее вниз, как струйка крови.
* * *
— Кто такой Стайер, Цэцэг?!
Не твое дело!
Что такое пятьдесят за плод?! Пятьдесят тысяч долларов?!
Не твое дело, тебе говорят!
Она даже не стала отпираться. «Да, это писала я», - кивнула она равнодушно, взглянув на записку. И Ефим взбеленился. Он схватил ее за грудки. Он кричал на нее. Он вытрясал из нее то, что — он видел это — вытрясти было невозможно. Даже если бы он ее пытал, вздергивал на дыбу, кромсал ножами, поджаривал на медленном огне.
Это старая записка?!
Тебе же сказали — не твое дело!
А что — мое дело?! Я сплю с тобой, значит, это мое дело!
Я сплю не только с тобой, — лукавый темно-алый рот изогнулся в усмешке. Пучок дегтярно-черных волос оттягивал голову назад. Скуластое раскосое лицо лоснилось от ночных кремов. По щекам пошли красные пятна гнева. — Я сплю с тем, с кем пожелаю! И ты мне тут не указ! И я не твоя собственность! Запомни это! Хоть ты и Ефим Елагин!
Цэцэг, — его голос внезапно упал до шепота. И он сделал непоправимое. Он встал на колени перед расстеленной кроватью, где сидела Цэцэг и мазала на ночь кремом широкоскулое холеное лицо. И взял ее за руку — так нежно, как только смог. — Цэцэг, милая, деточка моя, — он говорил все ласковые слова, какие могли излететь из него здесь и теперь, — Цэцэг, солнце мое, нежность моя… скажи мне… что общего может быть у тебя с моим отцом? Ведь эта записка не мне же адресована! И не моей матери! Она же адресована ему! Что у тебя с ним за шашни?.. Ты плохо кончишь, золото мое… моя Золотая Тара… мой отец занимается не совсем безопасными вещами… я хочу тебя предостеречь… уберечь…
О да, твой отец рисковый парень. — Она вынула гребень из пучка, вытащила шпильки, взяла их в зубы. Смоль волос скользнула на спину черной волной. — Семья Елагиных — одна из ста семей, которые правят планетой. Ты можешь гордиться тем, что ты его сын. Что ж, такой бык, такой конь с яйцами не нарожал тебе от твоей мамаши еще славных братиков и сестричек? То-то весело вы бы делили наследство! То-то перегрызлись бы все! Поубивали бы друг друга! Вот была бы потеха! А то ты один как перст, даже скучно.
Правят планетой, — он передернулся. — Да, мы повязаны с финансовой элитой мира! Да, мой отец ворочает неслабыми делами! Да, он знает, как, где и когда и на какие нажимать рычаги! Да, он азартный игрок! Но мне кажется, он переигрывает, Цэцэг! Он блефует! Он шулерствует! Он мухлюет в ставках! Не попалась ли ты не его удочку, дорогая?! Не будешь ли ты завтра съедена за обедом… зажарена до розовости, до приятной вкусной корочки, и съедена?!
Ну, буду съедена, что из того. — Цэцэг стала расчесывать черную косу, освобожденную от шпилек. Волосы заструились, заискрили под гребнем. — Тебе-то какое дело. Или ты хочешь сказать, что…
Да! — крикнул он и не узнал своего голоса. — Да, я идиот! Но я люблю тебя! И хочу тебя спасти!
От своего отца? — Цэцэг, не вставая с кровати, измерила его презрительным взглядом узких, как стрелы, глаз. — Ты хочешь спасти свою шкуру, выражайся точнее.
Он все еще стоял на коленях. Вздрогнул, когда маленький, как рыбка, мобильный телефон Цэцэг издал кошачье мурлыканье вальса Штрауса. Она, держа в одной руке гребень и продолжая расчесывать волосы, другой рукой лениво взяла трубку.
Да?.. Ах, это ты, Александрина… Мяу, мяу, милая!.. Ну как же, я безумно, безу-у-умно рада тебя слышать… Ах, ты меня — и видеть тоже?.. Когда?.. М-м, сейчас я не могу. У меня гости. Мя-а-ау!.. Сама знаешь… Как?.. Уже в Париж?.. Завтра?.. После Пасхи?.. А когда ваша Пасха, а?.. я ведь, извини, милочка, — буддистка… Ах, послезавтра?.. Это скоро… Ты там Судейкина увидишь, в Париже?.. Гаврику привет… у него там вернисаж, даже два, по-моему, в Центре Помпиду и в Гран-Пале… поцелуй старого бэби за меня… Да, да, я слышала про Витаса, конечно… такое несчастье… Да, завтра! Да, в двенадцать! Да, буду одна!.. Ча-а-ао!..
Она бросила телефон в подушки. Волосы тихо потрескивали под гребнем.
Назначаешь свиданку своей лесбиянке? — Ефим чувствовал, как у него немеют, словно под наркозом, губы.
Назначаю, а что? — Гребень по-прежнему двигался равномерно, плавно, зубья пронзали смоляную чернь косы. — Тебя это волнует?
Я только что признался тебе в любви!
В любви? — Рот Цэцэг изогнулся алым монгольским луком. — Какая чепуха! Ты еще веришь в любовь, мальчик? Я не узнаю тебя, Ефим Елагин. С каких это пор ты стал таким сентиментальным? Не осложняй себе жизнь. Бери от нее все удовольствия. Я приношу тебе удовольствие? Да? И ты даришь его мне. Мы квиты. Мы расплачиваемся друг с другом по счетам. Разве этого недостаточно? Ты хочешь кровавых страстей? Извини, милый. — Она вынула гребень из косы. — Я на них не способна. Если я тебя не устраиваю как любовница — брось меня. Если ты хочешь превратить меня в свою жену — тогда я умываю руки. Мой муж дает мне полную свободу. Если ты станешь моим мужем, я не увижу и кроху моей свободы.
И для того, чтобы быть свободной, ты избавилась от моего ребенка?!
Да. И для этого тоже. А потом, ты знаешь, я не люблю детей. Дети вызывают у меня чисто физическое отвращение. Когда я вижу маленького ребенка, меня тошнить. Рвать тянет. Вот такая я, уж извини, дорогой. Дети писают… какают… орут, визжат… корчатся, как червячки… ф-фу!..
Он вскочил с колен. Схватил ее обеими руками за щеки. Ее брови испуганно, изумленно поползли вверх, влажный алый рот приоткрылся. Его пальцы скользили по намазанной кремами смуглой коже.
Цэцэг, ты животное! — крикнул он. — Скажи, чем вы занимаетесь с моим отцом!
Ее узкие глаза от страха округлились, сделались большими, как черные вишни. Она закусила перламутровыми заячьими зубками нижнюю губу.
Ну хорошо. Ты отстанешь, если я скажу? Мы ловили беременных девок и продавали их и их икру. В хорошие руки. За рубеж. Очень дорого.
Продавали?!
Ты полный кретин, Ефим. — Она оттолкнула его руку от своего лица. — Конечно, продавали! Ведь все в мире продается и покупается! Ты же сам знаешь это! Да, продавали! На запчасти. Разве тебе не нужна будет свежая здоровая девственная почка, когда твоя откажет? Или другие, свежие и здоровые, потроха?!
Он сделал шаг назад. Он попятился от кровати.
Она сидела на кровати в своей роскошной хате на Якиманке такая ухоженная, такая молодая, красивая и здоровая, а ведь ей, наверное, уже было много лет, он же никогда не спрашивал ее о ее возрасте, ну да, она же тоже омолаживалась, она тоже питала, подкармливала себя свежими и здоровыми потрохами — тех женщин, тех детей, тех мальчиков и девочек, которых они убивали… они… она и его отец?!
Дина. Дина Вольфензон.
Они убили ее. От нее осталась только эта золотая змейка с изумрудными глазами.
Комната отца. Та комната, где висели женские украшения.
Браслеты… кольца… броши… колье… подвески… серьги… и даже золотые крестики на золотых цепочках… и мусульманские полумесяцы… и буддийские медальоны с маленьким золотым Буддой внутри и санскритским иероглифом «счастье» на золотой медальонной крышке…
Украшения… Женщины… Убитые…
Тьма вспыхнула перед ним золотой молнией разгадки.
Это все были украшения с убитых женщин! С их добычи! С их убитой, взрезанной и распотрошенной дичи…
Но ведь можно было выкупить детей… оформить документы… так делают, продают за границу — для усыновления… или для чего иного?.. Нет, нет, этого они не стали бы делать… Хлопотно… платить деньги… и потом, мать остается жива… и растет гора официоза… и она может подать в суд, если что не так, если ее обожаемого ребеночка не воспитывает зажиточная бездетная семья в Америке или во Франции, а давным-давно разделали и продали, и денежки эти уже проели, определили, проиграли в рулетку… Да и мать — тоже товар, и ее потроха на что-то дельное сгодятся… а анализы все они брали, с больными не возились… все было чисто, правильно… красиво… стерильно…
Что с тобой?! — крикнула Цэцэг как припадочная.
Он уже шел на нее. Он шел на нее, раскинув руки, будто бы хотел ее обнять, но она, глядя в его лицо, все поняла превосходно: он сейчас ее задушит.
Она поняла, что он понял все.
Ефим! — крикнула она и подняла перед собой руки, чтобы защититься. — Ефим! Не надо!
Красное бешенство плыло, вертелось перед его глазами. Он потерял рассудок. В нем, внутри, осталось только пламя. Красное, бешеное пламя, оно билось, бушевало, рвалось наружу. Он пытался руками, головой затолкнуть его внутрь. Напрасно. Оно вырывалось из него, затопляло с головой его, комнату, сидящую на кровати смуглую женщину с искаженным от ужаса лицом. Все охватилось красным пламенем. Зрения больше не было. Слуха не было. Он не слышал, как женщина кричала. Как визжала, страшно, на высокой ноте, умоляя, заклиная. Не видел, как закидывалось кверху, будто бы к небесам, будто в мольбе, ее лицо, как она хватала его за руки, внезапно ставшие каменными, железными. Не чувствовал, как под его пальцами сминается, гнется, пружинит, как тесто на опаре, мягкая плоть, как напрягаются сведенные судорогой мышцы, как хрустят, будто стеклянные, позвонки. Он давил и сжимал, бессмысленно скалился и тяжело дышал — до тех пор, пока красный огонь внезапно, враз отхлынул, освободил его лицо, вернул ему бедный, дрожащий, растерянный разум. Он увидел на кровати лежащую навзничь, бездыханную женщину. Ее черные волосы разметались по подушке. Ее красивое раскосое лицо синюшно вздулось. На ее нежной шее отпечатались красные пятна его пальцев.
Ознакомительная версия.