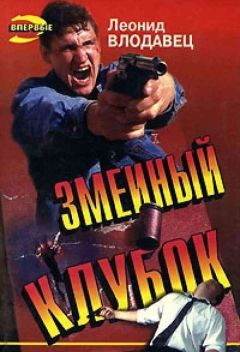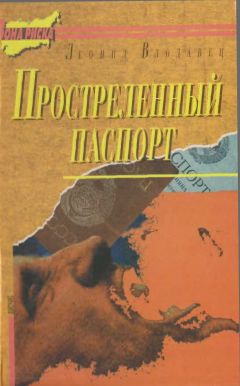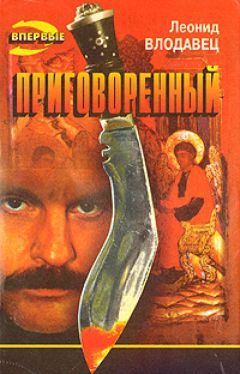Само собой, что, когда Воронков улетит, а с Ольгой чего-нибудь случится, Пантюхову останется только на Галину надеяться. Наверняка постарается сообщить, что у нее с детишками неприятности возможны, если она не объявится. Допустим, по радио или по телевизору чего-нибудь провещают, что, мол, они чем-нибудь там заболели или обожглись, или, допустим, что их банда похитила… Соврать недолго. А Митрохина прибежит точно, даже если будет знать, что с нее потом башку снимут. Такие бабы, как она, сами помереть готовы, лишь бы дети целы были. И им плевать, в принципе, на все государственые интересы, военные тайны или на то, что родной областью будет пантюховская мафия заворачивать. В ту войну, Отечественную, такие бабы сыновей в погребах прятали, а потом по сорок лет там держали, как в тюрьме, только бы не отобрали. А теперь вот к боевикам ездят, детей забирают под честное слово, что они больше воевать не будут. Ихние личные не будут, а чужие — то есть других матерей сыновья — как хотят. И Митрохиной тоже будет плевать, чьих сыновей пантюховские подручные будут стрелять и травить, брать в заложники или обирать до нитки. Лишь бы ее родные Никитка с Мишкой были целы и здоровы. Не осудишь ведь за такое… Но и спасибо не скажешь тоже.
Так что вполне оправданно будет с точки зрения Воронкова, если он и Галину отправит к законному супругу но месту постоянной прописки. Тут, правда сложность есть. Галину, как видно, до сих пор не поймали, а Воронкову уже пора в Москву собираться. Значит, Митрохиной будет заниматься не он сам лично, а кто-то наиболее надежный по его поручению. Если в течение следующих трех дней, до субботы, ее отловят, то скорее всего этот человек ее по-быстрому уберет. Допустим, по старому обычаю, «при попытке к бегству». Конечно, его Пантюхов за это не похвалит, но и Пантюхова тогда уже ничто не спасет.
Потому что Москва, получив на Пантюхова компромат, начнет вести себя, условно говоря, двояко. Разные люди по-разному. Одни будут подвязывать всякое лыко в строку, то есть стремиться, чтоб Пантюхов, утопая, потянул за собой как можно больше всякого народа, который сидит нынче на хлебных местах, загребает деньгу, покупает виллы в разных иностранных государствах, строит под Москвой четырехэтажные дворцы с бассейнами, а другим поживиться не дает. Но этим самым гражданам, конечно, слазить со своих кресел не захочется. Поэтому едва до них дойдет, в какую глубокую ямку залетел Георгий Петрович, то они его тут же и похоронят. Может, с помощью тех же верных людей, которые сейчас охраняют главу под командой Воронкова.
Самовар закипел, Ольга закончила вертеться перед зеркалом.
— Тебе покрепче? — спросила она, насыпая заварку в чайник.
— Средне, — ответил Леха.
Ольга подставила чайник под струйку кипятка из самоварного краника. Леха учуял ароматный парок и уже предвкушал, как погреет душу приятным натуральным напитком. Хоть и говорят, что чай не водка, много не выпьешь, но все-таки Леха сейчас предпочел бы чай.
И тут в дверь постучали. Сильно, громко, тревожно.
— В чем дело? — сердито спросила Ольга. — Кто там?
А Леха вдруг подумал о той самой козе на полосе. То есть о некоем неожиданном осложнении, которое может внезапно возникнуть и самым крутым образом все поменять.
— Госпожа Пантюхова! — Голос принадлежал дядюшкиному шоферу Роберту, и это немного успокоило Леху. — Господин Алексей Коровин здесь?
— Здесь, здесь! — отозвался племянник. — Сейчас открою!
— Чего они так рано-то? — проворчала Ольга, поглядев на часы. — Времени-то всего без пяти пять…
Леха открыл дверь. Роберт был бледен и взволнован.
— Александру Анатольевичу очень плохо, — доложил он вполголоса. — Он срочно хочет вас видеть. Только вас лично.
Из этого следовало, что Ольгу старший Коровин видеть не желает.
— Извини, — сказал Леха, разведя руками и как бы извиняясь перед Ольгой. Та только пробормотала:
— Понятно… Семейное дело.
И стала наливать себе чай.
Леха пошел следом за Робертом. Те несколько десятков шагов, которые он проделал, прежде чем оказался у дядюшки в номере, были пройдены не более чем за пять-шесть минут, но передумать по пути Коровин-младший успел немало.
Во-первых, он совершенно однозначно понял, что дядюшка если еще не умер вовсе, то находится при смерти. Во всяком случае, шофер не был бы так взволнован, если б дело обстояло иначе. Во-вторых, Леха как-то сразу засомневался: с чего это вдруг дядюшке поплохело так резко? Всего ничего прошло со времени прогулки, на которой он выглядел совсем бодрым и бойко беседовал с Пантюховым. Наконец забеспокоил и самый сложный вопрос: что будет, если Александр Анатольевич преставится?
Конечно, ничего додумать до конца не удалось. Тем более что, уже войдя в номер, Леха увидел плачущую навзрыд Нэнси, всхлипывающую, но звонящую куда-то Лайзу, грустно вздыхающего повара-грека, мрачного негра-охранника и весьма озабоченного врача.
— Мисте Элекс Короувин, сёё, — примерно так Леха услышал то, что произнес Роберт.
— Дакто Майк Кэсседи, — поклонился врач, а затем выдал длинную и непонятную фразу, которую Лехе перевел Роберт.
— Доктор Кэсседи сказал, что он пытался сделать все, что возможно в таких условиях, но, к сожалению, процесс развивался слишком быстро. Он приносит вам свои извинения и соболезнования по поводу кончины вашего дяди.
— Что произошло? — спросил Коровин.
Роберт перевел, и доктор опять затарахтел, причем Роберт явно и сам не все понимал, как казалось Лехе.
— Вы извините, господин Коровин, — в некотором смущении сказал шофер, — я в медицине не больно силен. Поэтому, если что неправильно понял, заранее прошу извинений. В общем, получается так примерно. Майк сделал Александру Анатольевичу обычную дозу стандартного обезболивающего. Обычно никаких негативных моментов не бывало. А сегодня резкая реакция. В пять минут посинел, получилась какая-то там асфикшн — и все. Может дать подробное медицинское заключение.
— Вы господину Пантюхову сообщили? — спросил Леха.
— Да, позвонили. Он сейчас будет, — ответил Роберт. — Лайза звонит в Москву, в наше консульство. Лимэй собирался с Инюрколлегией связываться, потом еще милиция, ваши врачи… Хоронить-то он вроде бы завещал здесь. Возни будет — сумасшедший дом!
— А кто такой Лимэй?
— Адвокат. Доверенное лицо Александра Анатольевича. Сейчас он тут фактически самое главное лицо.
Леха понял, что Лимэй — это тот мужик, которого он принял не то за дворецкого, не то за пресс-секретаря.
— Можно… к нему? — спросил Коровин, ощущая, что ошеломление, которое он испытал при известии о смерти дядюшки, куда сильнее, чем должно было быть. — В смысле, к дядюшке?
Роберт перевел это доктору Кэсседи. Тот кивнул утвердительно.
Леху проводили туда, где, вытянувшись в рост, лежал на кровати под иконами внук расстрелянного но ходу классовой борьбы Тимофея Коровина, сын белого поручика и эсэсовского гауптштурмфюрера Анатолия Коровина, полвека без малого провалявшегося незахороненным в землянке-бункере… Тот, чей годовалый сын погиб от союзной бомбы в 1945 году, так и не став немцем.
Но узнать его было трудно. Лицо стало багровое, почти черное, распухшее от прилившей крови. На нем отразилась гримаса смерти, жуткая, просто ужасная…
На всякий случай Леха, хотя и не верил в Бога, перекрестился. Правда, немного засомневался. Хорошо знал, что сначала пальцы, сложенные в щепотку, подносят ко лбу, потом — к поясу, а вот куда после этого — к правому плечу или клевому — запамятовал. Впрочем, за ним никто не следил и на ошибку, если он ее и допустил, не указал.
Жалко дядюшку было. Непутевая у него жизнь получилась, хотя и богатая. Да и то, сам же говорил, что разбогател не так уж и давно. Всю жизнь мотался по чужим странам, столько лет в инвалидной коляске. И оставить нажитое, в общем-то, некому, ни жены, ни детей, ни внуков. Небось столько это ему возни стоило, наживать миллионы, чего-то делать, производить, продавать, закупать, смотреть, чтоб не обжулили. Да и самому, наверно, кого-то кидать приходилось, заботясь, чтоб не посадили. Небось и мафия на него наезжала, и киллеров каких-нибудь подсылали. А он больной, одинокий, окруженный по большей части людьми, которым только деньги плати — кому хочешь будут служить.
Молиться Леха, конечно, не умел. Даже «Отче наш» толком не знал. Больше того, в его сознании зазвучала как-никак самая партийная музыка: «Интернационал». Потому что в юности Леха не только был пионером-хулиганом, но еще и знал наверняка, что перед этими самыми словами «Никто не даст нам избавленья: ни Бог, ни царь и ни герой», он и в сто лет будет шляпу снимать. И вообще он как-то приобвык, что в кино «Интернационал» поют только над могилами хороших людей.
Но от вопроса, что же ему теперь делать и куда теперь деваться, Леха уйти не мог.